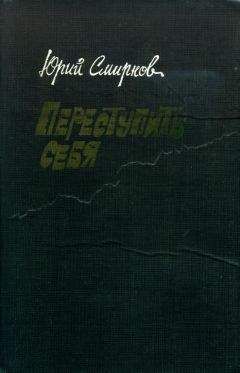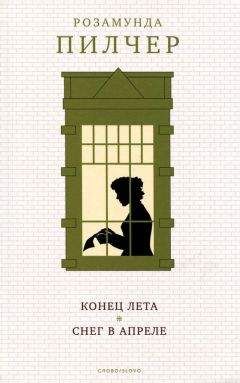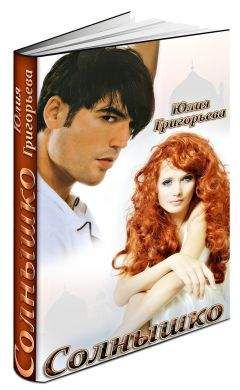— Мы, — сказал Точилин, под одобрительный смешок своих потомков, — комиссарам завсегда рады. Захаживайте при случае ишо раз.
— А мне с тобой, гражданин Точилин, и вовсе жаль расставаться, — ответил Иван. — Собирайся.
— Это куда же?
— В кутузку. Посидишь — авось вспомнишь, где хлеб спрятал и куда скот угнал.
От кулака Земскова, как и от лавочника Точилина, экспроприационная комиссия тоже ушла ни с чем, если не считать самого Земскова.
— Привел тебе напарника, старик, — открыв дверь каталажки, сказал Иван. — Вдвоем вам будет веселее. Как надумаете — позовите, я рядышком.
— Вота тебе, — прошипел старик Точилин, вывернув кукиш, — не видать вам моего хлеба!
— Завтра, граждане, — невозмутимо продолжал Иван, — перевожу вас на пролетарский рацион питания. Один раз в день кружка горячей воды, фунт хлеба и одна вобла. Родственники ваши предупреждены, чтобы больше ничего не носили.
Дня через три пришел старший сын Точилина, Никита, угрюмо попросил: «Дозволь отцу слово молвить». Иван молча отпер замок. Впустил, сам встал в дверях.
— Батюшка, — поклонился отцу сын, — их сила. Не выдюжишь.
Старик его прогнал. А через неделю потребовал священника. Иван к тому времени уже освободил Земскова, сын которого привез хлеб на двух санях. Ездил он за ним к морю, в камыши, — там, на одном из бесчисленных островков, был, видимо, у Земсковых тайник. Хотелось бы знать Ивану, что осталось в том тайнике… Комиссия перестала ходить по кулацким домам. После двух-трех неудач Елдышев понял, что это бесполезная трата времени: хлеб, мануфактура, соль, спички, снасти, сахар спрятаны у каралатских захребетников давно и надежно. Еще понял Иван, что действия гласные, дабы иметь успех, должны быть подкреплены действиями негласными. Стал начальник волостной милиции (а теперь он был полноценный начальник, волисполком поднатужился и наскреб паек для двух милиционеров) хаживать в народный дом, где директор Храмушин учил парней и девчат грамоте. Здесь же каралатские комсомольцы готовили к постановке свой первый спектакль и, не мудрствуя лукаво, вкладывали в уста шиллеровских героев призыв к революции… Стал, повторяю, Елдышев хаживать в нардом, и вскоре у него появилось в друзьях много молодых людей. Иные удивляли его своей зоркостью. Семнадцатилетняя Катька Алферьева сказала ему, что в избе коммунара Степана Лазарева повадились глубокой ночью топить печь. «Катерина, — строго сказал Елдышев, — ты бы допоздна-то не гуляла, замерзнешь еще ненароком… И что же, часто печь топится?» — «Раза два видела, — запылав, прошептала Катька Алферьева. — Вася видел… тоже».
Вася между тем недобро поглядывал на них из другого конца зала, где собрались парни. К счастью, Вася оказался пареньком смышленым и понял все с полуслова. Катерину провожали вдвоем… Со двора Алферьевых хорошо был виден двор Лазаревых, но в ту ночь наблюдатели не заметили ничего подозрительного, даже печь не топилась. Повезло во вторую ночь. Перед рассветом возник у крыльца человек, постучал в дверь условным стуком. Открыли ему тотчас — видать, ждали. «Выйдет — доведешь его до дому, — прошептал Елдышев Васе. — Не приметил чтоб!» Вася кивнул, снял тулуп, оставшись в ватнике: в первую ночь они чуть не пообморозились, вторая — научила их уму-разуму. «Вернешься и заходи туда, — Иван кивнул на землянку. — Я там буду».
Ночной гость недолго задержался у Лазаревых. После его ухода Иван подождал минуты две, перемахнул через забор и постучал так, как стучал ушедший. И верно постучал, потому что Лазарев, полуоткрыв дверь и белея в темноте исподним, спросил заискивающе:
— Али забыл что, Никита Григорич?
Сказал он эти слова и осекся. А Иван подумал, что зря погнал Васю следить за пришельцем: хлеб здесь был точилинский.
Они постояли немного, и тяжело дались эти мгновения Степану Лазареву, которого Иван знал с детства мужиком многодетным и невезучим. Баба его, тетка Лукерья, постоянно рожала одних девок, да и те мерли: из четырех выживала одна. Скотина на этом дворе тоже не держалась: то в ильмене увязнет, то мор на нее падет. А однажды летом произошло такое, после чего Степан уже не мог подняться хозяйством и съехал в батраки. За одну августовскую ночь неведомая болезнь, называемая в народе сетной чумой, превратила всю его снасть в коричневую гниющую массу. Другой бы запил от стольких напастей, озверел, но Иван помнил Степана Лазарева всегда веселим, неунывающим, с удивительно светлой улыбкой на курносом бородатом лице. Был Степан Лазарев схож с Ивановым отцом несгибаемой беззащитностью перед жизнью: оттого-то, видно, и дружили… Но, вспомнив это, Иван одернул себя: отроческая память светла, но она не даст ключа к пониманию того, что было и что есть… Коммунар Степан Лазарев глухо сказал:
— Проходи, товарищ Елдышев, коли пришел.
В горнице Степан долго высекал огонь, чтобы затеплить каганец. Иван нащупал ногой табуретку, сел. Сопели на печи дети, в темноте теленок ткнулся сухим теплым носом в руку Ивана, вздохнул, как человек. И сразу же проснулась тетка Лукерья и спросила звонко, предчувствуя беду:
— Отец, ктой-то у нас? Кто?
— Я это пришел, теть Луша. Иван Елдышев.
— Да чтой-то ты поздно, Вань? Али дело какое?
Иван молчал. Тогда Лукерья слезла с печи, во тьме нашла Ивана, опустилась на колени и обняла его ноги. Иван поднялся, но больше двинуться не мог. «Ты что? — растерянно сказал он. — Ты что, тетка? Пусти…»
— Вань, — тихо просила Лукерья, — не погуби нас, век молиться буду. Вань, ты же нас знаешь… Ну что тебе? Ну хочешь, большутку нашу возьми… Ты солдат, тебе надо… Девке шестнадцать, в самой поре… Анка, проси его, проси! Проси! — вдруг закричала она и, разжав руки, сползла на пол.
Степан зажег каганец. Жалкая улыбка кривила его губы… Вдвоем они подняли Лукерью, положили на застланный чаканкой пол, где, прикрываясь тулупом, сидела старшая дочь Анка. Рядышком беспробудно спали еще две девочки. На печи за ситцевой занавеской, откуда слезла Лукерья, слышались шорохи, сладкий сап, сонное бормотанье — и там спали дети. У печки покачивалась подвешенная к потолку зыбка. В ней сидел большеглазый младенец и ликующе гулькал, потому что видел свет каганца, слышал голоса людей — и в том была его огромная радость.
Вошел Вася, доложил уже известное. Спросил:
— За сколько продал коммунарскую совесть, дядь Степан?
— За мешок муки, Вася, — ответил Лазарев. — Двадцать точилинских храню, чтоб им пусто было. И еще лежат у меня в подполе десять мешков кускового сахару да пять штук ситцу.
— Июда ты, дядь Степан, — сказал Вася. — А ты, ты! — крикнул он, найдя глазами Анку. — Предательша! Гадюка! С нами ходишь, наши песни поешь, а нож у тебя за пазухой.