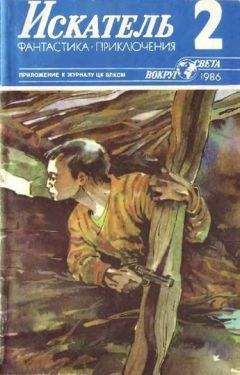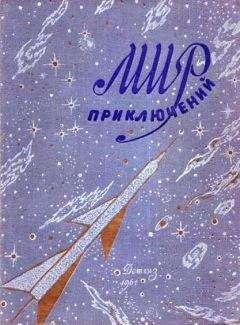— Стой! — требовательно прокричал ему вслед Аулиакуль, старательно беря на прицел убегающую фигуру.
— Не стреляй! Оставь его, не стреляй, Аулиакуль, — взмолился Хаятолла. — Это мой отец…
Дед с явной неохотой опустил диковинное свое оружие, сочувствуя Хаятолле и явно его жалея. Оба они — старый и малый — смотрели, как неровно, скачками, будто ослепший, двигался человек, как мелькала между валунов узкая его спина, обтянутая изодранной рубашкой…
Внезапно что-то произошло на тропе. Видимо, под ноги бегущего подвернулся камень-перевертыш, и человек, потеряв равновесие, споткнулся, взмахнул руками, пытаясь удержаться на краю пропасти, и снова упал…
Ни мольбы, ни даже крика о помощи не услышали от него. Цепляясь жилистыми руками за выступ, он упрямо сопротивлялся тянущим его в бездну силам, барахтался в безнадежной попытке нащупать ногами хоть какую-нибудь опору…
В бездействии Хаятолла наблюдал за этой борьбой, но когда сковавшее его оцепенение схлынуло, отошло, он бросился к ужасному месту, с маху упал перед обрывом на колени, схватил отца за ворот рубашки, помогая ему выкарабкаться из беды…
Той же тропой, по-прежнему не произнося ни слова, Нодир, едва придя в себя медленно стал спускаться к подножию горы, где возле захваченной у душманов техники возбужденно сновали и гортанно переговаривались сорбозы.
Аулиакуль посторонился, давая ему дорогу.
Хаятолла все это время сидел на корточках у края обрыва; плечи его вздрагивали, зубы стучали.
Неслышно, давая мальчику время, чтобы опомниться, хоть немного прийти в себя, доковылял снизу Аулиакуль, погладил Хаятоллу по жестким волосам на макушке, замер, не нарушая молчания грубым в такую минуту словом.
Покачиваясь на коленях, тоненько скуля, Хаятолла размазывал по лицу слезы. С его напрягшейся шеи соскользнул и повис, качаясь на шнурке, старинный амулет. Хаятолла положил его на ладонь, разглядывал сквозь слезы.
На кроваво-вишневом фоне камня вставала на хвост змея, и поза ее была угрожающей.
Александр ПЛОНСКИЙ
ЕСТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ БОЛЬШАЯ
Люблю Землю. В орбитальном полете не устаю любоваться ею. Командир, бывало, шутит:
— Смотри не прилипни к иллюминатору, Ким!
Но как оторваться от величественного зрелища: разорванные облаками, проплывают за бортом материки и океаны. Индийский — голубой, Тихий — большей частью серо-стальной, Саргассово море изжелта-зеленое, а Красное — оно и есть красное, вернее, грязновато-бордовое…
Впрочем, все это весьма приблизительно: земные цвета изменчивы, оттенков множество, их динамика не укладывается в словесные описания, здесь место компьютеру. Он — бесстрастный и безошибочный регистратор, ему чужды эпитеты и метафоры. Великолепие красок для него лишь спектр электромагнитных колебаний. Обыкновенный энергетический спектр.
Я же вижу, как поминутно меняются краски, Земля на глазах хорошеет. Дышит, движется, работает, словно увлеченный великим делом человек… День ото дня появляются все новые нити транспортных магистралей, растут мегаполисы, там и сям возникают стрелки взлетных эстакад. Рои авиаторов снуют в атмосфере — на первый взгляд хаотически, а на самом деле упорядоченно, согласованно, по строго рассчитанным коридорам.
Предпочитаю смотреть на Землю невооруженным глазом. Мне кажется неэтичным разглядывать, точно мошек под микроскопом, людей на многоярусных тротуарах, вырывать из массы и проецировать крупным планом фигурки хорошеньких девушек. Да и не думаю я о девушках. Меня завораживает сама Земля, она красивее любой женщины! Странное утверждение для двадцатипятилетнего? Пожалуй… Но я вовсе не женоненавистник. Просто всему свое время. А пока мое сердце принадлежит не женщине, а богине — Земле. И космосу. Иначе я был бы там, внизу, среди многих миллиардов себе подобных.
Прекрасны космические зори. Алая полоса вдоль горизонта, оранжевая над ним, затем последовательно желтая, синяя… Взгляд скользит выше, и вот уже топаз сменяется аметистом, фиолетовый цвет густеет, переходит в черноту, пронзенную мириадами звезд-лазеров.
Дивно хорош восход Солнца, если наблюдать его с орбиты. Едва родившись, заря с каждым мгновением набирает силу, делается все более яркой, светлой и насыщенной, развертывает растр чистейших цветов. Внезапно линию горизонта взламывает столб света. Следом всплывает край солнечного диска. Солнце растет, становится ослепительным. А заря истончается, увядает. Вот уже и нет ее…
Каждые полтора часа две зари — утренняя и вечерняя. Пора было привыкнуть, но я не уставал восторгаться волшебной феерией этих встреч и прощаний…
Вспоминаю их в мучительной ностальгии: вот уже третий месяц «Каравелла» виток за витком навивает кокон вокруг Верги. Счет времени земной, но сама Земля — страшно подумать) — за пределами видимой отсюда Вселенной…
Верга прячет лицо под паранджой туч. Местами на их сплошной сиреневой пелене видны свинцово-серые спирали: в центре темное пятно, по радиусам — веер зыбких лучей. Так выглядит с орбиты мощный вергианский циклон.
Нечто подобное я наблюдал на затянутых облаками участках земной поверхности. Но нет, никаких аналогий! Здесь — Верга. И даже имя, которое мы ей дали, действует на меня угнетающе. Чужая, враждебная, недоступна» планета. Планета-мумия. И над ее саркофагом зловеще нависло багровое угасающее светило.
* * *
Столетие назад, в начале двадцать четвертого века, метаастролог Ред Викки выступил с дерзкой гипотезой. До него Вселенную представляли не только бесконечной в пространстве и времени, но и структурно бесповторной. Согласно общепринятой теории ни одно созвездие, ни одна планетная система не имели двойников.
Ред Викки предположил, что Вселенная подобна атомной решетке кристалла, то есть обладает симметрией, состоит из периодически повторяющихся частей — галактических доменов. В каждом из бесчисленного множества доменов есть свои Кассиопея, Андромеда, Лебедь, есть Солнце и Земля.
Викки утверждал, что в структурном калейдоскопе Вселенной пространство и время соотносятся подобно массе и энергии, только, в отличие от знаменитой формулы Эйнштейна, их взаимозависимость так сложна, что с помощью существующего математического аппарата выразить ее невозможно. Это утверждение вызвало массу кривотолков и даже насмешек. К метаастрологам вообще относились с недоверием: сам термин «метаастрология» казался вызывающим, он как бы подчеркивал преемственную связь с астрологией, которая на протяжении веков сохраняла скандальную репутацию лженауки.