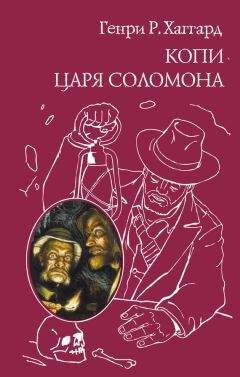Настали те самые «смутные времена». Он все еще никак не проявлял собственного разочарования, обиды, растущего неверия. Не промышлял, как большинство, безропотно шел на любое дело, не задавая вопросов и не снимая дивидендов. Чем лучше он выполнял приказы, тем грязнее и страшнее они звучали, и настал момент, когда его поместили в «крайние». Это было очень давно, когда оказалось достаточно одного звонка из Алма-Аты, от родича, чтобы в МГБ его приняли с распростертыми объятиями. Родич все еще здравствовал и руководил на родине, а его человек, «ставленник Казахстана» (каким в глазах московских гэбешников, да и в личном деле, наверняка, представал Тахир) вызывал недоверие, вызывал неприязнь, и его стали все чаще и чаще использовать «по-черному»: во всевозможных провокациях, акциях устрашения, для контактов с мафиози, с экстремистами разных мастей. На нем накопилось за год-другой столько «грязи», что в открытую брезговали некоторые сослуживцы.
Звучит смешно и нелепо, но Тахир чуть ли не последним в конторе (в своем отделе) догадался, что такое с ним делают. Но молчал и терпел. Хотя мог бы рассказать много — о том же Карабахе, о погромах в Баку, о Прибалтике, о Тбилиси, о торговле оружием и наркотой, и его познания по прошествии времени стали внушать серьезные опасения начальству. Никто не мог понять, почему он «всегда готов», не отказывается, не возмущается, хотя список заслуг и наград давал уже право голоса, — а Тахир не мог возражать, считал себя солдатом, а приказы солдатами не обсуждаются, и Тахир твердил себе (когда другие смеялись над ним), что не его дело рассуждать, оценивать, «философствовать», надо быть верным присяге и выполнять служебный долг.
93-й год стал годом перемен в его мировоззрении. Он уже не мог заставлять себя не рассуждать, не противиться, не оскорбляться — и не презирать людей вокруг себя. Оставалось терпеть, но с каждым месяцем, с каждым делом становилось очевидней — света в конце тоннеля, хотя бы оконца, любого лаза из черной, залитой кровью пещеры для него нет, не предусмотрено. Впереди тупик, а в тупике ждет человек со стволом, из которого в затылок Тахиру пустят пулю. Сколь близок этот выстрел, он не знал, надеялся, что немного времени на маневр ему еще отпущено.
У него украли родину. Вскоре после свадьбы (которую сыграли в Москве, в общаге) и после рождения сына они с женой случайно приехали в Алма-Ату, в декабре. Он тогда уже учился в высшей школе, Марина — на журфаке МГУ, — и нарвались на знаменитый погром. То, что потом писали в газетах о сотнях напившихся студентов, об инсинуациях снятого с поста Кунаева и его сподручников, — все было туфтой. Они видели, что шла резня, — резали русских, каковыми посчитались все славяне в этом городе. Верно, что сами казахи-алма-атинцы были в шоке, поскольку до того ни малейших видимых предпосылок к конфликту не было. Но это так всем казалось. Всем простым и уверенным в себе (благо, лишних знаний не отпущено) советским людям.
Тахир сам «отработал» трое суток на площади Брежнева, у Дома правительства, ловил, вязал и избивал, иногда сам защищался от нападений, иногда спасался. Студенты из Казгуграда (студенческого городка в верховьях Алма-Аты, чье население на девяносто процентов состояло из аульской неграмотной бедноты, ненавидевшей и сам город, и власти; и пришлось уже Тахиру вникать: сами они, восставшие, были выходцами с нищего севера, племена так называемого Младшего Жуза, веками воевавшего с южным, оседлым и богатым Старшим Жузом) действительно шли под крики об оскорбленном национальном чувстве — как же, русского Колбина вместо татарина Кунаева поставили, но их ярость, бешенство, жажда крови не имели никаких видимых объяснений. Тахиру разъясняли «умные люди», что Кунаев был ставленником южан и северяне требовали прихода своего, — а им был молодой, свежеиспеченный Председатель Совета Министров Назарбаев. В результате через пару лет идиотского маскарада с Колбиным он и пришел к власти. Но уже все в столице увидели кровь, видели, как раздирали, топтали, давили и жгли славян. Казахи запомнили, как на площади войска (советские русские войска) избивали и бросали мертвыми в штабеля на грузовиках их детей, — и забыть это, особенно в смутное, злобное, яростное время, было бы невозможным усилием. Уже не вытравить.
…Им тогда пришлось остановиться в гостинице. Его мать не пустила Марину на порог, отказалась взглянуть на ребенка, — и Тахир, сам же вознегодовав, наорал и замахнулся на жену, когда попыталась словами (ругательными) излить обиду на его мать. А с утра мимо гостиницы шли эти толпы, орали, пара милиционеров, избитых, в лужах крови валялись у входа в гостиницу. И все ждали, что юнцы ворвутся сюда. И было очень холодно в то утро, — плакал месячный Тимурка, а Марина не могла этого заметить, сама ревела и кричала. У нее пропало молоко.
Он запрещал, а она улизнула, вечером побежала куда-то. Он за ней. Оказалось — в госпиталь, подружки сообщили, что ее детдомовский приятель убит. Живой был тот Валерка, просто работал парикмахером в ателье на Тимирязева — как раз напротив КазГУ и комплекса общежитий. Днем ничего не понял, не удрал, вечером, после смены, на него навалилась толпа, бритвенными лезвиями исполосовала лицо и тело (выглядело страшно, хотя по сути, как вслух заметил Тахир, парню повезло — и глаза, и нос, и уши, и подвески мужские, все осталось торчать, лишь кое-что для прочности подшили). А парень, увидев Тахира, забился в корчах — шок был у него, решил, что азиаты пришли дорезать… Он сказал жене, что тот немного свихнулся, а Марина закричала: «Я ведь тоже боюсь! Я всех здесь боюсь! Кто из казахов нормальный? Кто не набросится? Ты знаешь?..»
А Тахира не надо было убеждать, сам был потрясен. Они уехали, как только его сняли с оцепления, перед тем Тахир нанес визит родичу. Послушать оценку событий. Ушел из гостей в еще большем ужасе: пожилой и мудрый дядя, попивая чаек из пиалы, выхватывая куски мяса и теста из кисе с бешбармаком, говорил (в 88-м году!), что Союз неминуемо развалится, что русские теперь побегут из Казахстана, а здесь начнется открытая схватка между родами, кланами, жузами и прочей феодальной херней. За власть. То есть, сам феодализм воцарится в Казахстане, его никто не искоренил, не отменил, просто тайное станет явным, отшвырнув все эти идеологии и партократии. Уйгурский дядюшка посоветовал племяшу уезжать в Европу, в Москву, там будет тяжело без родни, связей, поддержки, но будут надежда и нормальная жизнь. Ошибся дядя, сильно ошибся, теперь Тахир это мог сказать точно…
«Где сейчас хуже? Где страшнее и гаже? — думал он, проезжая по ночной Москве. — Там распри и интриги кипят в верхах, а население более-менее спокойно. Здесь верхи в покое, а именно на улицах идет война…» Главное, Тахир тоже был из низов и уже вляпался в дела, от которых можно было или хохотать истерично, или вешаться.