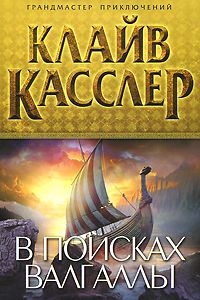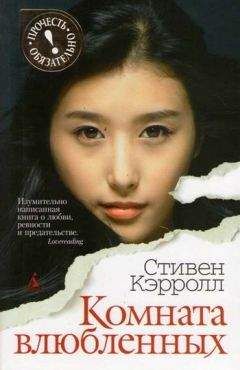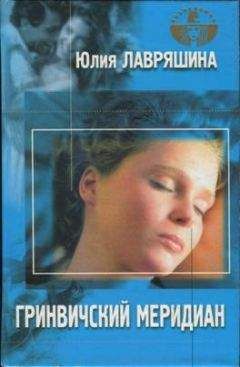Но все-таки — от трехэтажного дома с комнатой номер шестнадцать, с заведывающим оперативным отделом — от прерванного делового разговора — к другому разговору, сугубо деловому, важному, толковому и подробно-длительному.
Надоедливо, раздражающе проделаны формальности: комендантская, «к кому, по какому делу?». «Получите пропуск. Комната номер сорок семь»; сухой и быстрый огляд часовых на каждой площадке лестницы. И — комната номер сорок семь.
— Вас вызывали?
— Нет. Я по особому делу. Я зав. торговым отделом Крутогорского губсоюза. Моя фамилия Никитин, Иван Сергеевич... Видите ли... У меня сейчас произошла необычайная, нелепая встреча. В Госторге — замзав. оперативным отделом Кириллов... Но это длинная запутанная история... У вас будет время меня выслушать?..
Слова идут с запинкой, речь складывается нескладно. Губы все еще пересыхают.
Уполномоченный — тот, кто за пачками бумаг, заслоненный телефонными аппаратами, глядит сквозь очки напряженно и выжидающе. Он деревянно, одними губами улыбается и сухо, но быстро отвечает:
— Говорите все... Мы все выслушиваем... Все, что имеет хоть малейшее отношение к делу... Присядьте...
Никитин, Иван Сергеевич, складывает с колен к ногам мешающий ему портфель, слегка вздрагивающими пальцами проводит по коротко остриженным темным с густою проседью волосам, вздыхает. Словно прислушиваясь к своему чему-то далекому, вздыхает.
— Этот... Кириллов, — тихо говорит он, — мне известен с одиннадцатого года. В одиннадцатом году...
Уполномоченный отодвигает от себя какую-то папку с бумагами, выдергивает белый чистый лист из лежащей сбоку стопки, сжимает кончиками с широкими обкусанными ногтями пальцев карандаш. Карандаш упирается в бумагу. Насторожился. И когда, овладев собою, Никитин рассказывает свою историю с одиннадцатого года, острие карандаша хватает его слова и бежит по белому листу, оставляя крепкий и незабывающийся след.
А уполномоченный изредка покачивает головой, взглядывает на Никитина и скупо и одобрительно бросает, словно заколачивает гвозди:
— Так... так... так...
…………………………………….
Звонок был резкий, как всегда резки бывают внезапные звуки в ночи.
Иван проснулся первый. Не зажигая огня, он соскользнул с постели, в темноте осторожно и ловко пробрался к спящему Сергею и разбудил его:
— Тихо, Серега! — шопотом сказал он. — Это — обыск. Одевайся живо и лезь через окно в полисадник.
Сергей в темноте неуклюже завозился с платьем. Койка под ним скрипела. Два раза с грохотом сдвинулся с места стул.
— Тише! — зашипел Иван. — Возись живей! Медведь!..
Звонок уже заливался. Глухие удары сотрясали где-то дверь. Тревога шевелилась кругом. Уже встревоженно стучали шаги у соседей. Одинокий вскрик, покрытый глухим рокотом, всплыл и оборвался.
— Береги сверток!.. — шепнул Иван одевавшемуся Сергею. — Кати прямо к Марье Ивановне. Пуще всего береги сверток — тут почти вся техника...
— Ладно!..
Окно раскрылось. Сергей прыгнул в черную влажность летней ночи. Иван зажег огонь, подобрал с полу подушку и пальто, на которых спал Сергей, оглянул комнату и, проведя слегка вздрагивающими пальцами по темным волосам, пошел к входной двери.
Почти вламываясь, в переднюю комнату вошли и сразу заполнили шумом, звоном, говором всю квартиру.
— Почему так долго не открывали?
— Спал крепко! — чуть-чуть смеясь глазами, ответил Иван и пропустил ротмистра вперед себя в комнату.
Жандарм быстро оглянулся, он словно понюхал воздух, остро взглянул на разбросанную постель, на открытое окно.
— Где второй? — резко спросил он.
— Что такое? — прищурился Иван.
— Я спрашиваю, — где ваш товарищ, который с вечера был здесь?
— Здесь никого, кроме меня, не было.
— Сафаров! — обратился ротмистр к сопровождавшим его: — обыскать вокруг дома, двор, соседние дворы.
— Слушаюсь!
— Ну-с, — поигрывая серыми холодными глазами, сказал ротмистр Ивану. — Показывайте ваши вещи...
...Утром Ивана усаживали на извозчика. Была преддневная зябкость. Серые улицы дремали, закрыв отяжелевшие ставни. Ротмистр хмуро застегивал легкую шинель и раздраженно отдавал последние распоряжения Сафарову.
Иван поднял воротник летнего пальто и глубоко засунул руки в карманы.
— Вези, брат, — сказал он извозчику, вскарабкиваясь в пролетку, — поживее! Надо, брат, немного отдохнуть...
Спичечная коробка, легкая и хрупкая, плохо хоронит в себе звуки: спички в ней постукивают глухой мягкой дробью. Спичечную коробку поставили на уголок, и холеные пальцы с отшлифованными ногтями быстро вертят ее, бесцельно и ненужно.
— Я вам советую подумать, молодой человек, — благодушно, благожелательно, мягко и бархатно льется голос. — Ваше счастье, что вы попали ко мне. Я не хочу относиться к вам формально, только как к преступнику. Я понимаю вашу молодость. Все мы были молоды. Да, да!.. И вам нужно лишь перестать упорствовать. Перестать упорствовать, молодой человек!..
Молодой человек сидит неловко в твердом, но удобном кресле. Он глядит в угол кабинета, туда, где возле какой-то двери, на высокой круглой тумбе, легко вознесся чугунный всадник. Молодому человеку вовсе не интересен этот неподвижный, на одном месте скачущий всадник. Но какое-то чувство тянет глаза в этот угол, подальше от серых глаз, тщательно, упорно и без передыху щупающих, ищущих, отыскивающих, узнающих. И пряча глаза от допрашивающего, молодой человек упорствует.
— Я не скажу, — говорит он с трудом, с усилием... — я не скажу больше ничего... Я не знаю нисколько про этот сверток, который вы где-то нашли...
Сверток здесь сбоку на столе. Газетная бумага разодрана, развернулась, из нее вылезли пачки плотной бумаги, черные тоненькие книжки и запачканные фиолетовой и черной краской плоские печати — круглые, четырехугольные.
Оставляя спичечную коробку, пальцы ротмистра тянутся к свертку и осторожно ухватывают чистый паспортный бланк.
— Вот это называется — техника, паспортное бюро. И пахнет это годиками четырьмя каторги. Понимаете!.. И ко всему прочему — нам все, решительно все известно. Неясны только детали. Вы могли бы нам помочь закончить скорее следствие. Вы отказываетесь, — жаль. Очень жаль.
Ротмистр сокрушенно покачивает головой и слегка вздыхает:
— Оччень жаль... Придется делу дать официальное направление. Что же, сами виноваты.
И откидываясь на спинку кресла, ротмистр стряхивает со своего лица остатки добродушия и любезности и металлически, по-военному, кричит: