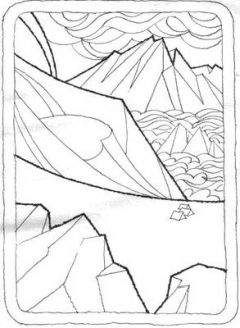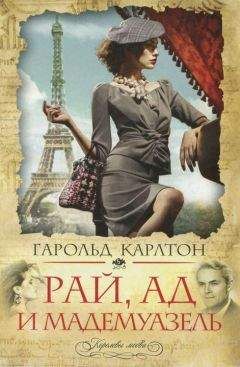— Ты чего плюешься?
— Так. Слушай... Суп-то хоть и из поганой птицы был, а все же сытный. Заморили мы червячка. — Через полминуты поинтересовался неожиданно: — Есть хочешь?
— Хочу, — признался Присыпко.
— Погоди. Может, утром еще кого убьем. Ведь один патрон все же остался, — Тарасов усмехнулся. — Студенцовым не израсходованный. А потом, должен же ветер стихнуть, не век ему лютовать. Не верю я, что он долгий, на всю зиму. — Тарасову было важно и в себе и в других поддерживать надежду. — Стихнет — вертолет придет.
— Зима нам ни к чему. И век тоже. Но если ветер еще пару дней протянет, от нас тут одни косточки останутся. Трупы.
— Кроме Манекина, — Тарасов закашлялся, помотал головою в темноте.
— Ну, он трус, он долго не протянет. Как только окажется среди трупов, так сам и загнется. И патроны не надо на него тратить, и грех на душу брать...
— Веселый мы с тобой разговор, Володь, ведем.
— Веселый, — Присыпко зашевелился в темноте, замер, прислушиваясь к гоготу ветра. Пробормотал тоскливо: — И когда он только, гад, стихнет? Вот нечистая сила. Ох, и...
— Знаешь, — обрывая бормот связчика, вздохнул Тарасов, отер пальцами глаза. — У нас одна заначка есть. Я, когда галку обдирал, на худой случай перья с нее собрал. Так что мы имеем еще шанс. Перья сварим. Проку мало, но каждое перышко обсосать можно. Это, конечно, не гармошка. Скоро камни жрать будем. Давай спать.
Утром Студенцову сделалось худо, он бредил слабым, едва слышным голосом, звал какую-то Киру, а вот какую — никто не ведал, во всяком случае Студенцов никогда никому о ней не рассказывал. Струпья облепили его лицо чуть ли не целиком, щеки за одну ночь в сплошную коросту превратились. Без всяких объяснений было понятно — худо Студенцову, очень худо. Надо было что-то предпринимать, но вот что? Лучшим лекарством могла стать чашка куриного бульона, но где ее взять, эту чашку дымного горячего живительного бульона? Надо было сторожить галочью стаю, и Тарасов снова чуть ли не весь день, скрюченный, с вымерзшими глазами, пробитый холодом до костей, проторчал на леднике с ружьем.
Увы, впустую. Можно было отнять колбасу у Манекина, наплевать на все этические нормы, психологические преграды, прочую интеллигентскую муру, но колбасы в манекинском рюкзаке уже не было. Рюкзак его стоял на старом месте, выглядывали оттуда какие-то шмотки, расческа, катушка ниток с продетой в скрутку иголкой, лежал нож с отщепленным лезвием, а колбасы не было. Возможно, Манекин ее съел, возможно, спрятал, когда все спали. А просить у него колбасу... Уж лучше подохнуть с голода, лучше застрелиться.
Манекин по-прежнему был розоволицым, свежим, исполненным достоинства, словно и не случилось ночного происшествия. Он пробовал заговорить с Присыпко, но тот отмалчивался, смотрел мимо него либо взирал на Манекина, как на некий стеклянный предмет, сквозь который можно было видеть. Игорю Манекину было наплевать на это, он презрительно хмыкал. Он был себе на уме, Манекин, он осмелел — ему больше ничего не угрожало.
От голода внутри все пекло, будто там завелась и теперь дышала, постоянно ворочалась осклизлая, злобно острекающая живую плоть медуза, запускала щупальца в мягкую ткань тела, высасывала из мышц последние соки, остатки жизни.
Сил не было терпеть голодную, изматывающую боль, но Тарасов все же старался одолеть ее, терпел. Хотя не знал, насколько этого терпения хватит.
Из всех мук, которые когда-либо испытывал и которые когда-либо знал Тарасов, самая тяжкая мука, самая страшная — это голод. Человек теряет контроль над собою, бывает готов пойти на преступление, даже самое тяжкое — убийство, предательство, чтобы заполучить кусок хлеба и утолить полученным собственное чрево. Причем голод, который человек испытывает, допустим, в детстве, совершенно разнится с голодом, что уготовано изведать тому же человеку во взрослые годы, — это Тарасов проверил на себе. Когда-то в послевоенном детстве, в эту далеко не радужную пору, в которой популярными и самыми сытными были щи из лебеды и свекольного листа, а кусок жмыха, украденный на железнодорожной платформе, являлся настоящим лакомством, Тарасов испытал тяжкое лихо — голод. Был он слабым синюшным пацаном, как, собственно, и многие его сверстники, воровал съестное, если можно было где-то своровать, старался, несмотря на голод, выжить. И выжил. И не так уж трудно это было.
А вот сейчас, когда он взрослый, когда его треплет, сводит на нет голод, — сейчас ему худо. Очень худо. Так худо, что... впрочем, не только он — любой, даже более мужественный, более твердый человек готов потерять человеческое обличье, способен съесть другого, себе подобного, дабы утолить, забить голод, выжить. Нет, пожалуй, более сосущей, одуряющей, тяжкой боли на свете, чем боль голода. Вообще-то, боль как таковую выдержать можно — и люди выдерживают ее, от боли не мутнеет мозг, а вот от голода мутнеет, и тогда человек теряет контроль над собой. Вон, к примеру, Студенцов.
В любой ситуации человек должен оставаться человеком. В любой! Независимо от того, в какую передрягу он попадает, какой жизненный экзамен держит. «И ты, Тарасов, останешься до конца человеком, даже если загнешься на этом леднике. Чтобы на Большой земле друзья-альпинисты всегда вспоминали тебя добрым, а не худым словом, одаряли твое имя теплом, чтобы память о тебе осталась светлая, чтобы в доме твоем чтили тебя, а не ругали, чтобы дочка твоя, которая через десять-двенадцать лет станет совсем взрослой и, возможно, уже выйдет замуж, гордилась тобою. Именно гордилась, хоть и затертое это слово какое-то, помятое от частого, к месту и не к месту, употребления. Порою это слово используют совершенно впустую, по никчемному поводу, вот и замусолили, захватали его. — Тарасов неожиданно зло вскинулся, схватился рукою за шнур, торчащий над пологом, поднялся. Попал лицом в колючий снеговой хвост. Прикрылся от него воротником пуховки. — Чтобы потомкам твоим за тебя не было стыдно. — Он, успокаиваясь, расслабился, выколупнул из бороды мерзлые катышки. Оборвал ледяные висюльки, наросшие на концы волос. В другой раз от этих красивостей, от банальности рассуждений Тарасов просто поморщился бы, не стал злиться, а сейчас — увы, взвился. Душа у него, будто книга какая раскрытая. Что? Истина насчет доброй памяти слишком избитая? Все истины избитые. Ведь их на белом свете не так уж и много существует. От частого употребления все они невольно стали затертыми, изжульканными, привычными для нас. И все же всегда, в любой ситуации, всюду человек должен оставаться человеком. Всегда, всюду! Всегда, всюду!»
Тарасов встрепенулся, засунул руку в карман, где хранились галочьи перья, смерзшиеся, в бурых кровяных подтеках, с выдранными из слабой тушки комочками мяса. Разделил кучку надвое, решив, что одну половину они сейчас сварят, вторую оставят на завтра.