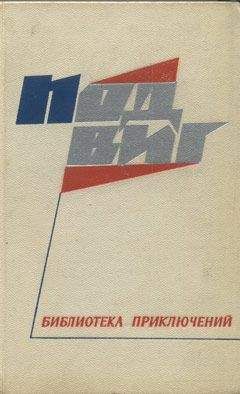Через три дня после похорон мы с Марией выехали обратно в долину. Профессор Ташибаев хотел было заменить ее кем-нибудь из сотрудников института, но Мария только молча посмотрела на него, и он сразу заговорил о другом.
До границы мы ехали на поезде. В купе нас было только двое. Маша все время лежала на верхней полке и смотрела в потолок. Я не находил себе места, то и дело выходил в коридор курить, без всякой нужды принимался — в какой уже раз — осматривать и перевязывать тюки с оборудованием, потом достал затрепанный блокнот погибшего друга и снова начал листать его.
В этих отрывочных записях не было никаких откровений или открытий. Случайные наблюдения над животными вперемежку с выписками из понравившихся книг, какие-то рисунки, пометки о разных забавных черточках, подмеченных мимоходом у кого-нибудь из нас. Женя многим интересовался, и глаз у него был острый, цепкий.
«…Удивительно все-таки, сколько опасных силков расставила повсюду природа человеку! Какие только болезни не таятся, например, в норах грызунов: и чума, и таежный энцефалит, и бешенство! Причем многие из них для самих животных неопасны, а губительны лишь для человека. Начинает казаться, будто слепая природа прямо-таки с иезуитским коварством расставила капканы в диких, труднодоступных местах и терпеливо ждет миллионы лет, когда туда придет человек. Ведь микроб чумы, как уверяет Машка, старше человека по крайней мере на пятьдесят миллионов лет. Что же, рассматривать его как этакую живую мину поразительно замедленного действия?!
Но это, конечно, лишь кажется. Просто все живое нуждается в определенной среде для нормального существования. И повсюду идет вечная, бесконечная борьба за существование, за выживание наиболее приспособленных. Человек лишь случайно порой „вваливается“ в эту схватку микробов между собой.
Академик Павловский, создавший замечательное по своей стройности и глубине учение о природной очаговости болезней, писал: „Болезни с природной очаговостью стары для природы и новы лишь в отношении времени и условий поражения ими людей и еще более новы, если судить о времени, когда врачи научились правильно их распознавать“.
Блестящий зоолог, микробиолог, путешественник, страстный фотограф — чем только не увлекался этот замечательный старик! Вот у кого надо поучиться…»
«Никак не удается подобраться поближе к архарам и понаблюдать за ними. Сегодня наткнулся на большое стадо. Подошел метров за двести. Они смотрели на меня и совершенно не пугались. Но едва двинулся дальше, вожак подал сигнал, и стадо умчалось.
Даже к спящим архарам не подкрадешься. Они хитрые: всегда устраиваются где-нибудь возле колонии сурков. При малейшей тревоге сурки их вспугивают своим свистом, и бараны убегают…»
Я листал страницу за страницей, не особенно вчитываясь. В глаза лезли лишь отдельные записи, другие словно застилало туманом.
«…Очень меня заинтересовало, что некоторые муравьи возле пятого муравейника почему-то странно себя ведут. Они совсем не участвуют в общей жизни муравейника, а, облюбовав себе какую-нибудь травинку повыше, забираются на нее и сидят там неподвижно, вцепившись жвалами в листовую пластинку. Я пометил некоторых лаком для ногтей, который взял у Машки, — на другой день все они снова оказались висящими на травинках. Зачем они это делают? Сошли с ума? Еще одна загадка. Как говаривал дедушка Крылов: „Весьма на выдумки природа таровата…“
Интересно, уходят ли эти „рехнувшиеся“ муравьи хоть на ночь в муравейник или висят так целыми сутками? Но как это проверить? И так все в лагере глумятся над моим увлечением муравьями».
«Видел издали Хозяина и опять стал думать: почему же не заболевает этот зловредный старец? Ведь должна быть какая-то причина. Маша считает, будто у него выработался иммунитет. Но тогда можно, значит, и у других людей выработать невосприимчивость к болезни, над загадкой которой мы так безуспешно бьемся? Ну, это уж нашим медикам виднее. Я тут профан…»
Ну, а дальше опять про муравьев… Я отложил блокнот и стал смотреть в окно. А Мария все лежала наверху на полке и молчала как мертвая.
И вот мы снова в долине. Вечер. Бормочет в камнях река. Мы опять сидим у костра — только втроем, не вчетвером…
Николай Павлович, видно, сильно скучал один и теперь отводит душу в бесконечных рассказах с тысячами пустяковых подробностей о том, что он тут делал без нас, сколько подстрелил сусликов и полевок, как дважды встречался со стариком, но тот собак на него науськивать не стал — «видно, привык к нам…».
— И поверьте: как его встречу, даже вроде легче становится — все-таки живая душа. В общем-то, если внимательно разобраться, он старик неплохой, только, конечно, темный, забитый, вот и пытался вредить…
Я слушаю плохо, киваю и поддакиваю невпопад. Мария молча смотрит в огонь. Но Николаю Павловичу надо выговориться.
Скверно у меня на душе еще из-за нелепого спектакля, который устроил нынче для чего-то доктор Шукри. Когда мы приехали в поселок и зашли к нему в больницу, принял он нас очень тепло и трогательно. Угощал чаем, расспрашивал о работе, не утешал и не произносил никаких громких слов, но мы все время ощущали, как глубоко и искренне он нам сочувствует.
Среди нашей беседы в комнату без стука вошел какой-то полный седой человек в помятом мешковатом сером костюме.
— Разрешите представить вам моего старого, хорошего друга, — сказал доктор Шукри. — Давно обещал приехать ко мне погостить и, наконец, когда, признаться, я уже совершенно перестал в это верить, неожиданно сдержал слово. Его зовут Абдулла Фарук Назири, но вы мои друзья и можете называть его просто «дядюшка Фарук».
Дядюшка Фарук улыбнулся, приветливо покивал нам седой головой и молча уселся в уголке возле окна — на правах старого друга, видно, вовсе не считая, что может нам помешать.
Мы поговорили еще с доктором Шукри о наших дальнейших планах и уже собирались прощаться, как вдруг он удивил нас странной просьбой.
Сначала доктор зачем-то подошел к двери и выглянул в коридор, потом тщательно закрыл ее, сел рядом со мной, доверительно положив руку мне на колено, зашептал:
— У меня будет к вам одна просьба, дорогой коллега. Маленькая просьба, хотя и несколько щекотливого свойства…
— Какая?
Доктор Шукри встал, подошел к холодильнику и достал из него большой медицинский термос, который мы привезли ему прошлый раз из Ташкента. Поставив осторожно термос в центре стола, Шукри снова подсел ко мне и опять зашептал, как заговорщик: