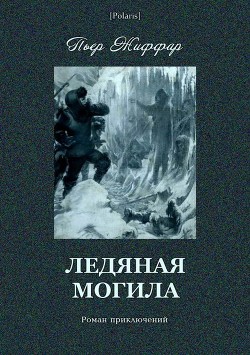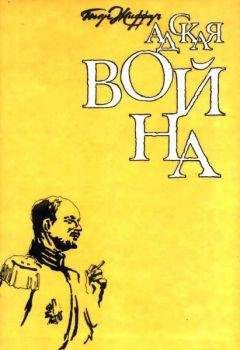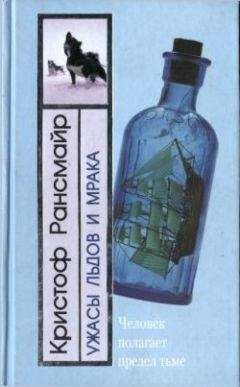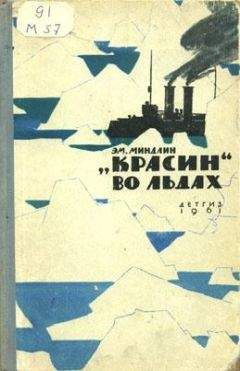— Но ты не был бы жив, пойми это! — вскричал старый профессор. — Ведь я должен был выбирать между ним и тобой!
— Вот это-то я и ставлю тебе в упрек, отец! Ты делал выбор, но не имел права этого делать. Если у тебя не было под рукой человека, умершего естественною смертью, ты обязан был отказаться от своего плана и предоставить меня моей неизбежной участи. Воскресить мертвого, да еще собственного сына! Что говорить, идея возвышенная, идея божественная, но ты превратил божественную мысль в адскую! И вот теперь я восстаю против тебя во имя попранной справедливости. Ты воскресил мою совесть, и она обвиняет тебя в гнусном преступлении.
— Справедливость! Совесть! Пустые слова! Что мне за дело до твоих нравственных законов? Я знаю только одни законы, законы природы. Какой отец на моем месте стал бы колебаться? Да, я принес чужую жизнь в жертву ради тебя. Но возьми весь баланс человечества, и счет выйдет правильный. Ты со своей риторикой забываешь верховную власть цели, величие результата. Что значит жалкая жизнь этого ботаника, когда мы с Манфредом можем теперь сказать всему свету: смерть перестала быть непоправимым, неодолимым злом! Мы вызвали ее на бой! Мы сразились с ней и вырвали у нее добычу! Другие последуют нашему примеру и одержат еще тысячи таких же побед. И ты, и Квоньям участвовали в этом блестящем триумфе науки, который затмевает собой все ее прежние победы. Делай из своего Квоньяма жертву; пусть будет так! Но помни, что эта жертва принесена на алтарь науки.
— Я почтительно слушаю тебя, отец, и все же разум мой не принимает твои доводы, и сердце мое не соглашается с ними. Сердце, мое сердце! Украденное сердце, чужое сердце, сердце, принесенное в жертву! О, я слышу, как оно меня укоряет за жизнь, дарованную мне! Оно с негодованием бьется в моей груди! Оно вопиет о правосудии, о мщении! О, отец, если бы ты знал, какой страх и ужас за тебя я сейчас испытываю!
— Страх за меня? Чего же ты боишься?
— Боюсь какого-нибудь ужасного возмездия.
— Благодарю покорно, сыночек милый!
— Ты говоришь, что сгубил невинную жертву ради торжества твоей науки! Это противоречит разуму, совести, правде! Да если бы вы все, со всей вашей наукой, должны были провалиться сквозь землю из-за того, что вам не удалось принести такую жертву, я пальцем не двинул бы, чтобы спасти вас. Мне легче было бы видеть, как вы проваливаетесь, нежели дозволять с легкой совестью такое жестокое злодейство! Ради невесть какого грядущего блага человечества, вы принесли в жертву человеческую жизнь! Вы не имели на это права! Все ваши софизмы тускнеют перед простой человеческой совестью. Вы пытаетесь отрицать ее, эту совесть. А я ее-то первой и нахожу в глубине того самого сердца, которое вы ради меня разбойнически отняли у другого! Сердце жертвы и кровь преступника, твоего сообщника Манфреда, — вот чем я был оживлен, вот чем меня воскресили из мертвых! И не удивляйся, что мое первое сознательное слово к тебе после того, как я все узнал, — упрек в злоупотреблении, в страшном злодеянии вашем во имя вашей науки, упрек за смерть бедного молодого человека, который жил, цвел и, быть может, ничего так не желал, как наслаждаться своей цветущей жизнью! Это злодейство, это преступление!.. Гнусное злодейство, гнусное, гнусное, гнусное!..
Тем временем снаружи началось что-то необычайное. Все судно трепетало, и был слышен яростный скрип якорных цепей. Собаки громко и мрачно выли. Становилось очень опасно оставаться у берега. Нужно было немедленно сниматься и выходить в открытое море.
Встревоженный капитан Кимбалл постучался в дверь лаборатории и вкратце доложил об этом главе экспедиции, спрашивая его приказаний. Профессор отвечал, что предоставляет ему распоряжаться по собственному усмотрению и продолжал свои препирательства с сыном.
— И ты смеешь еще упрекать меня! — воскликнул он. — Ты ли это? Мой ли сын проливает глупые слезы из-за того, что с разбитых часов сняли стрелку? Одним человеком стало меньше! Экая важность! Благодаря смерти этого человека мой сын вернулся к жизни! Еще раз повторяю, Джордж: что значит для меня жизнь неведомого человека по сравнению с твоей? Он сам молил освободить его от тяжких уз жизни; вот я его и освободил. В чем же, позволь полюбопытствовать, тут зло? Он просил, я исполнил его просьбу. Да если бы даже этот Квоньям никогда не просил меня ни о чем подобном, неужели я поколебался бы принести его в жертву ради того, чтобы вернуть тебе жизнь?
— Он мог так говорить, но не надо было его слушать, — твердо ответил Джордж. — Нельзя лишать жизни ближнего, хотя бы он умолял нас об этом на коленях!
— Экий вздор! Над кем же хирургия должна делать свои опыты пересадки и прививки органов? Над тюленями, что ли? Для пересадки сердца человеку нужно человеческое сердце. И сердца будут брать везде и всегда, когда появится возможность, как и было в нашем случае. А ты толкуешь о своих нравственных законах! Что они стоят, эти законы, при сопоставлении их с задачей возвращения человеческой жизни?
Старик оседлал своего конька и теперь уже не оправдывался, а гордился своим величием.
— Науке нет надобности считаться с этими слезливыми жалобами. Оставим бабьи слезы бабам. Будь мужчиной и вспомни поговорку: «Цель оправдывает средства».
— Есть цели, к которым человек не может стремиться, не запятнав себя бесчестьем.
— Глупости!
— Так говорит мне моя совесть. Прислушайся и ты к своей.
— Ей-Богу, слушая тебя, мне так и вспоминается Манфред, когда он чуть не хныкал и просил меня обождать, не вскрывать грудную клетку и не изымать сердце Квоньяма, пока тот окончательно не умрет!
Мертвенная бледность разлилась по лицу Джорджа Макдуфа.
— Что ты говоришь, отец?.. Повтори, что ты сказал!.. Так значит, аргентинец говорил правду, он не выдумал этот ужас?.. Я не мог заставить себя поверить… Я старался не думать об этом…
— Что там еще наплел тебе аргентинец?..
— Он говорил, что вы не дождались смерти ботаника, что вы вырезали сердце у живого человека…
— А ты тоже хотел бы, чтобы мы дождались его смерти?.. Ну, мой милый, тогда нечего было бы и выбирать… Если брать сердце мертвеца, тут уж решительно все равно, кто он — пересадка все равно не удастся. Пойми, что на успех операции только и можно было рассчитывать, располагая для пересадки еще живым сердцем, которое остановилось лишь на короткое время, необходимое для проведения самой операции…
— Так он был еще жив!.. Вы вскрыли живого?.. И вырвали у него сердце, и дали его мне… И это оно теперь бьется у меня в груди?.. Ты в самом деле сделал это, отец?
— Ну, сделал… Что же с того?
— О, какая гнусность!.. Но я этого не хочу!.. Мне не нужно оно, не нужно чужое сердце!.. Я не хочу, не хочу его!..
XIX
РАЗГРОМ
Несчастный Джордж, подавленный негодованием, гневом, отвращением, как сноп повалился в кресло.
— Милая Эмми, и ты, мой маленький Тоби, и ты, мама! — кричал он, напрягая остатки своих уже истощенных сил.
— Скажите, о, скажите, разве вы допустите, чтобы жизнь вашего сына, мужа, отца была куплена такой ценой! Я слышу, что говорят мне в ответ ваши негодующие голоса! Они повелевают мне исполнить свой долг! И я его исполняю… Прости, отец! Я облегчу твою совесть!
Манфред, находившийся поблизости, услышал эти отчаянные вопли и ворвался в лабораторию. Он бросился к Джорджу, но было уже поздно.
Джордж Макдуф лихорадочным движением схватил нож, лежавший на столе, одним взмахом перерезал все повязки на своей груди, сорвал с себя бинты и отшвырнул их в сторону. Швы давно уже заросли и зажили. Он с мужеством ожесточенного отчаяния разрезал эти швы, и из них потоками хлынула кровь. Он вонзил нож себе в грудь и поворачивал его там, кромсая наудачу артерии, вены, сердце…
Скоро силы оставили его, и он повалился навзничь, бездыханный.
По странному совпадению, почти в тот же миг среди воя разыгравшегося уже урагана грянул страшный удар грома. В это время судно, уже успевшее сняться с якорей, пробиралось по каналу, шедшему от бухты Воскресения в открытое море.