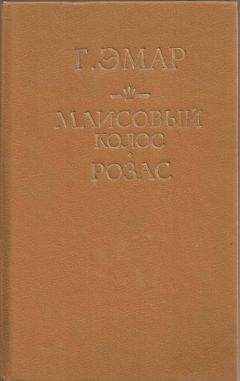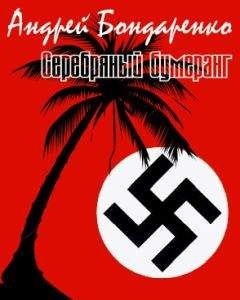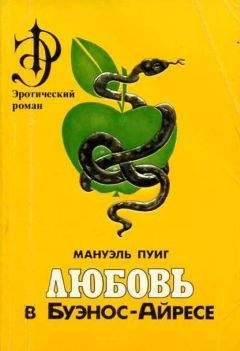— Ну, это дело ваше, для меня оно совершенно безразлично, сеньор посланник. Константинополь и Алжир меня нисколько не интересуют. А что касается блокады, то вы знаете, она вредит кое-кому гораздо больше, чем мне, — заметил Розас.
— Знаю, знаю, сеньор генерал, — с живостью ответил Спринг: — последствия продолжения блокады Ла-Платы ложатся всей своей тяжестью на английскую торговлю.
— А известно вам, какой английский капитал заключен в Буэнос-Айресе и почему французская эскадра держит ее тут взаперти?
— Знаю. Два миллиона ливров в местных съестных припасах, портящихся с каждым днем.
— А сколько приходится тратить ежемесячно для возможного сохранения этих припасов?
— Двадцать пять тысяч ливров, ваше превосходительство.
— Совершенно верно, сеньор Спринг.
— Я уже сообщал обо всем этом своему правительству.
— Знаете вы также, на какую сумму приостановлено британских мануфактурных изделий в Монтевидео?
— На миллион ливров, я и на это указал лорду Пальмерстону.
— Стало быть, вам нравятся такие потери, раз вы знаете о них, — проговорил с улыбкой Розас. — Впрочем, это дело ваше. О вкусах не спорят... Если вы довольны этими результатами блокады, то мне только остается радоваться за вас, а сам я уже сумею от нее избавиться.
— Мне давно известно, что ваше превосходительство все можете сделать и никогда ни перед чем не растеряетесь, — с льстивой улыбкой заметил сэр Вальтер.
— Ну, положим, не все, сеньор посланник, — возразил Розас, откидываясь на спинку кресла и снова пронизывая англичанина до дна его души своим острым взглядом, — далеко не все. Например, когда посланник иностранного государства укрывает в своем доме унитария, преследуемого правосудием, я не могу рассчитывать, чтобы этот посланник пришел ко мне, откровенно рассказал об этом и попросил для своего протеже милости, в которой я никогда не отказал бы ему.
— Разве, что-нибудь подобное случилось?.. Какой же посланник мог решиться на такую дерзость? Соблаговолите сказать, ваше превосходительство, на кого вы намекаете? — проговорил сэр Вальтер с видимым изумлением.
— А вы сами его не знаете, сеньор Спринг? — инквизиторским тоном продолжал Розас.
— Даю вашему превосходительству честное слово...
— Довольно! — резко перебил диктатор, сразу поняв, что ошибся, и цель, ради которой он собственно призывал министра и употребил столько труда, не достигнута. — Довольно! — повторил он, вставая, чтобы скрыть бешенство, исказившее его лицо.
Сэр Вальтер опять смутился, охваченный новым притоком недоумения в виду странного, трудно объяснимого поведения Розаса.
Последний прошелся несколько раз взад-вперед по столовой, затем вдруг остановился, как вкопанный, положив руку на спинку стула, на котором бедный мулат тщетно боролся с дремотой, и стал напряженно к чему-то прислушиваться.
По улице неслась во весь опор лошадь и вскоре остановилась перед домом диктатора.
— Какая-нибудь депеша из полиции, — заметил англичанин, пользуясь случаем вновь завязать беседу, так круто оборванную Розасом.
— Ошибаетесь, сеньор, — сухо возразил диктатор, — эта лошадь из предместья и всадник ее простой гаучо, а не полицейский комиссар, который загнал бы ее так, что она упала бы перед моим домом.
Спринг молча пожал плечами и встал со своего места.
В столовую вошел Корвалан с пакетом в руках.
Розас схватил пакет, поспешно разорвал конверт, развернул письмо и пробежал его глазами. После первых строк, лицо диктатора исказилось такой дикой злобой, что сэр Вальтер, видевший это, не решался верить своим глазам.
— Вы удаляетесь, сеньор Спринг? — произнес не своим голосом Розас, прерывая чтение и протягивая руку.
— Да, я не хочу мешать вашему превосходительству.
— Когда намерены вы отправить пакетбот?
— Послезавтра, сеньор генерал.
— Это очень долго. Заставьте своего секретаря поработать так, чтобы пакетбот мог отплыть завтра после полудня... вернее говоря — сегодня, потому что уже четыре часа утра.
— Хорошо, пакетбот отправится сегодня в шесть часов вечера, ваше превосходительство.
— Очень благодарен. Покойной ночи, сеньор Спринг, — произнес диктатор, слегка наклоняя голову.
Отвесив несколько поклонов, посланник удалился.
— Корвалан, проводите сеньора Спринга! — приказал диктатор.
— Сеньор! Что это вы приказали сделать с еретиком? — закричал мулат, очнувшись от своей дремоты. Ему показалось, что английского посланника повели на казнь.
Но Розасу было не до разговоров, сев на свое место, он положил перед собой на стол письмо, подпер руками голову и стал внимательно перечитывать его, вдумываясь в каждое слово. По мере того, как он читал, глаза его наливались кровью, на лбу напрягались жилы, а лицо, попеременно, то бледнело, то краснело.
Немного спустя, он грубо выгнал мулата, заперся в своем кабинете и принялся шагать от одной двери к другой. Он скрежетал зубами, потрясал кулаками, топал ногами, проявляя порывы самого необузданного бешенства.
Утро пятого мая было ясное, и свежий ветерок, пропитанный запахом фиалок и жасмина, в изобилии росших на песчаных равнинах Барракаса, разгонял густой и сырой ночной туман.
В течение всего апреля шли проливные дожди, как будто сама природа хотела способствовать невзгодам, обрушивавшимся на аргентинский народ, и пятое мая было первым хорошим днем за длинным периодом ненастья.
В городе все еще было тихо, хотя ослепительно-яркие солнечные лучи давно уже заливали его. Аристократический Буэнос-Айрес, по справедливости прозванный Афинами Южной Америки, еще спал, точно желая как можно дальше отодвинуть от себя заботы дня.
В глубине его широких и прямых улиц, под навесами зданий, кое-где еще виднелись последние тени, но вскоре перед победоносно наступавшим на них ярким дневным светом должны были исчезнуть и они.
По бирюзовому небу плыли легкие перламутровые и золотистые с розовыми краями облачка, отражавшиеся в зеркальной поверхности Ла-Платы.
Но вот послышался глухой, монотонный стук тележек пригородных поставщиков, привозивших продукты на рынок, начали открываться лавки, зашмыгала прислуга вперемежку с другим мелким людом: город просыпался и приступал к своей обычной деятельности.
Из одного дома на улице Виктории вышел высокий, худой и желтый человек лет пятидесяти и направился к рынку, тяжело опираясь на толстую палку, без которой, казалось, он не мог сделать ни шагу.
Он двигался медленно, с видом человека, вышедшего только подышать свежим утренним воздухом, полюбоваться на давно уже не виданное ясное небо и, кстати, показать свой новый ярко-красный жилет и свои федеральные значки, красовавшиеся у него на груди и на шляпе.