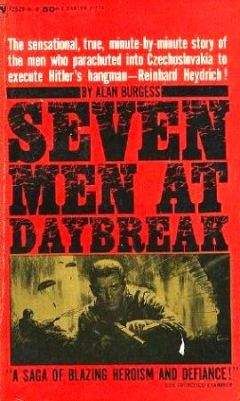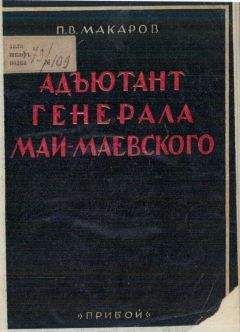Во время процесса я, конечно, не приезжал в Вену, а следил за ним по газетам, но когда Иоланту перевезли в крепость, ее имя исчезло со страниц прессы и все успокоилось, то настал, наконец, момент, когда надо было добиться свидания. Однако в это время я с головой ушел в выполнение ответственных заданий, колесил по Европе между Стамбулом и Осло, Варшавой и Лиссабоном. Я гордился собой и своими успехами, которые подбивали меня к новым и новым обязательствам, и дни летели с головокружительной быстротой. Конечно, я всегда помнил об Иоланте. Среди самых неотложных вопросов работы, успел договориться с начальством, подставные лица нашли необходимого юриста и через него обеспечили передачу заключенной всего необходимого. Я сделал решительно все, чтобы материально ей помочь… Но не приехал сразу. Да, не приехал сразу.
Прошла неделя… Еще одна… Совесть, вначале шепотом говорившая мне, что я поступаю неверно, забывая про душу и заботясь лишь о теле, наконец, завопила о подлости. " Ведь я жертвую всем только для дела, — успокаивал я себя. — Работа — вот лучшая дань любви к Иоланте…" "Вы ведете себя, как герой!" — сказал мне однажды начальник. Тогда я вспомнил ее слова на мосту ночью, побежал на вокзал и вскочил на венский поезд.
Вечером прибыл в крепость. Серые бетонные казематы, серый бетонный двор. Комендатура. Равнодушный просмотр документов. Наконец, узенькая полоска серой бумаги в дрожащих от нетерпения руках — пропуск…
Старый унтер ведет меня через залитый дождем двор. Низкие двери. Темный коридор. Железная дверь с номером.
— Входите, — сипит унтер.
Узкая длинная комната подвала, слабо освещена подслеповатой лампочкой. Справа и слева — железные решетки от потолка до пола. За ними стоят заключенные и надзиратели. Посередине — проход для посетителей. В конце его солдат в каске с винтовкой у ноги. Тускло блестит короткий штык.
Справа за решеткой высокий мужчина с военной выправкой. Это — гитлеровец. Он шепотом говорит что-то на ухо своему посетителю, а тот время от времени грубо и отрывисто отвечает: "Слушаю. Так точно".
Слева за решеткой стоит толстый человечек. Он, молча, плачет, а сквозь решетку, на него смотрит жена и трое детей — и тоже плачут. Этот наверняка растратчик.
А где же… И я вижу, наконец…
Словно брошенная вперед страшной силой любви и скорби, точно вдавленная в решетку, повисла на ней молодая женщина в позе неописуемого, беспредельного отчаяния. Широко раскинутыми руками она впилась в железные прутья, и длинные пепельные волосы упали на лицо, прижатое к железу. За решеткой, в сером тюремном халате и солдатских ботинках на босу ногу, стоит Иоланта. Лицо опущено, глаза закрыты. Тонкими худыми пальцами она перебирает шелковистые светлые локоны и едва слышно повторяет: — Не надо… Не надо, Изольда.
Помню, я, когда вышел наверх. Шел сильный дождь, и бетонный двор, окруженный казематами, превратился в мутную лужу, покрытую дождевыми пузырями — они вскипали, лопались и снова вскипали. А я смотрел на них и думал. Я чувствовал, как в темноте самого глубокого тайника моей души шевелилась опасная гадина. Глядя внутрь себя, различал тусклый блеск ее холодной чешуи. Именно тогда в моей голове родилась мысль — Изольду надо убить.
Изольду надо убить.
Потом со мной случилась печальная история, бросившая тень на мою последующую работу. Но поскольку я пишу не о советской разведке и не о себе, то бегло коснусь ее потому, что она тлетворным краем своим задела и жену: как заключение, разведка уродует души и жизнь не только прямо, но и косвенно — посторонних людей, которые вынуждены с ней соприкоснуться.
— Графиня Фьорелла Империали — первая и пока единственная женщина-дипломат фашистской Италии, — говорит мне наш резидент товарищ Гольст, — хорошенькая, образованная, гордая, богатая, своенравная, старше вас почти на десять лет, вы поняли? На ней поломали зубы мы все: деньги ей не нужны, легких физических связей она не ищет. Как же подойти к ней? Где лазейка? К нам, советским людям, относится без предубеждений. С интересом. Вот вам и лазейка. Заинтересуйте ее культурными темами, а потом инсценируйте любовь. Только не спешите: графиня не дурра! Не испортите дело грубой игрой! Даю вам год или два. Потом делайте предложение.
— То есть как?
— Да так. Предложите увезти ее сначала в Москву, а потом в Вашингтон, куда вас якобы отправляют в десятилетнюю командировку на должность второго секретаря посольства. Бумаги вы ей покажете, все будет в порядке. Соблазнительно? Распишите советскую жизнь в Москве и в Америке, а когда она клюнет, и физическая близость войдет в потребность, вы печально, со слезами на глазах, вдруг объявите, что Москва боится предательства и нужно какое-нибудь доказательство искренности и окончательности перехода к нам, так себе, какой-нибудь пустячок, пара расшифрованных телеграмм. Потом еще. Еще. Даст один палец — потребуйте второй, после руку. А когда женщина окажется скомпрометированной — берите всю целиком: нам нужны шифры и коды, вся переписка посольства. Срок выполнения задания — три года. Поняли?
Я был молод и недурен собой. Задание казалось только любопытным приключением, а сама графиня Империали — крепостью, взять которую у меня не хватит ни сил, ни уменья, ведь я только мальчишка двадцати шести лет, а она — светская дама, римлянка, одна из тех женщин, которых я мог видеть только издали. Я начал работать. Потом пришла страстная любовь к Иоланте и женитьба. Я продолжал разработку. Грянула драма нашей семейной жизни — ее болезнь. Я медленно, не спеша свивал вокруг графини паутину тончайшего предательства. Наконец, поток жизни, шлифующий острые камни, сгладил все то, что мешало моей совместной жизни с любимой женой: мы духовно сблизились и растворились друг в друге — наступили дивные дни безоблачного счастья. Именно в это время я закрепил дружбу с графиней физическим сближением.
— Гм… — задумчиво тянула Иола, снимая с моего пиджака сине-черный волос. — Странно: ведь я рыжая?
— Гм… — рассматривала Фьора рыжий волос, снятый с моей груди. — Откуда он? Ведь у меня волосы как воронье крыло!
Но те, кто любит, — слепы. Они верят. Я тоже горячо любил и глубоко уважал их обеих, но оставался зрячим потому, что больше всего на свете любил серую неопрятную женщину в очках, с толстым томом "Капитала" под мышкой — богиню социальной революции и классовой борьбы. Я никогда не был у нее на поводу — я бежал за ней добровольно. " Я не виновен, — спокойно повторял себе. — Я делаю это не для себя. В конце-концов, борьбы без жертв не бывает, и мы все втроем просто жертвы. Я не меньшая, чем они. Нет, большая! Я — воин и герой!" По ночам я возвращался от графини Фьореллы поздно, часа в три-четыре, и дома в своей спальне опрокидывал в темноте тяжелые стулья.