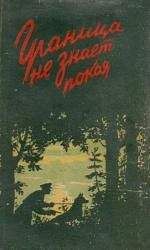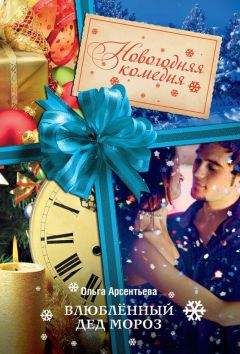Рассвело. Терлецкий увидел тоннель с зияющей пастью. Ночной партизанский взрыв оказался слабеньким.
Там, где шоссе разделялось надвое — на Меллас и на тоннель — становились бронетранспортеры, из них высыпали солдаты. Один взвод пошел по правой стороне шоссе, а другой, прижимаясь к обрывам, скрылся в ущелье.
— Иоганн! — голос шел снизу.
— Не стрелять. Подойдут — штыком! — приказал Терлецкий.
— Иоганн! Ио—ганн! — голос уже хрипел у самых дверей.
Она скрипнула, приоткрылась, показалась каска и тут же покатилась по желтым табачным листьям.
Взводы подошли к тоннелю, облепили его. Солдаты сбились у зева, начали отшвыривать камни.
Одновременно ударили четыре пулемета. Тех, кто был у тоннеля, сдуло, как ветром. На камнях остались убитые.
...Прошло двадцать пять часов. Уже на табачном сарае не было ни чердака, ни дверей. Остался каменный остов, осталось в живых пять пограничников с Форосской заставы.
Терлецкий, черный от гари, в изорванной шинели, лежал за последним пулеметом.
— Осталось десять гранат, сто сорок патронов, товарищ лейтенант,— доложил ему сержант.
Подошли танки. Они повернули орудия на сарай и ударили прямой наводкой.
Пограничники выскочили за один миг до того, когда новый залп до основания слизал всю правую часть сарая.
Они ползли по головокружительной тропе на четвереньках, а по ним не прекращались залпы.
Вставало солнце, таял белесый туман, вдали темнело море, но у тоннеля все еще стреляли пушки. Они били в пустоту.
...К начальнику штаба Балаклавского отряда Ахлестину ввели пять пограничников. Один из них, высокий, с серыми главами, опаленный до черноты, приложив руку к козырьку, отрапортовал;
— Группа пограничников из боевого задания...— и упал.
Ему разжали челюсть, влили спирт. Он, глотнув воздух, открыл воспаленные глаза, спросил:
— Есть связь с Севастополем?
— Есть...
— Доложите, что пограничники держали фашистов у тоннеля двадцать пять часов... сорок минут...
— Так это вы сражались у Байдарских ворот? — спросил Ахлестин, но Терлецкий ответить уже не мог...
Шли дни...
У подножия скалы—великана, темной громадой нависшей над ущельем, еще в недавние времена вился едва приметный звериный след. По нему барсуки спускались на водопой. Теперь след расширился, утоптался и стал партизанской тропой. Взяв начало на дне ущелья, она шла кромкой скалы, потом, сделав неожиданный поворот, падала и обрывалась у входа в пещеру,
В глубине пещеры, с высокого свода спускались сталактиты, похожие на гигантские крученые свечи..
Под темным сводом блекло мигали огоньки — горел трофейный кабель. На стенах плясали длинные тени, сталактиты таинственно светились.
Кучками сидели партизаны в ватниках, шинелях, румынских папахах, в постолах, кованых трофейных ботинках. Сдержанно переговаривались.
В углу примостился Терлецкий. Он был очень худой, с желваками на щеках, но подтянут, чисто выбрит, в полной командирской форме, правда, потрепанной и местами обгоревшей.
Терлецкий уставился в свод и тихо пел: «Ты постой, постой, красавица моя...».
Голос у него был скрипучий, резал слух.
— Перестань, тоска,— попросил командир отряда — черноглазый мужчина в барашковой папахе.
— Будешь держать в пещере — не то еще услышишь. Выпускай на волю.
— Не могу. Обнаружат немцы — все пропало.
Терлецкий подскочил к командиру, заговорил так, чтобы никто не слышал:
— Заживо хоронишь нас. Люди пухнут от голода. Не выпустишь — сам пойду. Он подумал и попросил примирительно: — Пусти, командир, на батарею. Она же бьет по самому Севастополю, а я там каждый камешек знаю...
В это время мы с комиссаром впервые пришли в Балаклавский отряд, который полностью подчинили нам. Судьба его очень беспокоила нас.
Пещера произвела самое угнетающее впечатление. Мне, например, казалось, что каменный свод вот—вот обрушится и всех раздавит в лепешку.
— Это же могила,— сказал я командиру отряда в первую же минуту встречи.
— Точно,— отозвался кто—то рядом.— Какая же польза Севастополю от того, что мы прячемся в этой каменной яме?
Я вгляделся в темноту и увидел... знакомого пограничника.
— Это вы?
— Так точно, товарищ командир партизанского района. Лейтенант Терлецкий.
Терлецкий!
И я тотчас же вспомнил о легендарном бое у тоннеля, о том, как был изъят староста—предатель из деревни Скели, как пленен начальник штаба немецкой артиллерийской бригады. Все эти подвиги были известны отрядам всего района, как известно и имя того, кто совершил их: Терлецкий! Мог ли я думать, что Терлецкий и тот «службист» — одно и то же лицо.
Мы молча смотрели друг на друга, пока я не рассмеялся.
— А мне все—таки влетело за нарушение пограничных правил. Платил штраф.
— Я знаю, товарищ командир,— сухо ответил Терлецкий и так же строго, как тогда, взглянул на меня.
Я перестал смеяться.
— Вы что—то хотели сказать?
Он стал горячо доказывать, что отряд держать в пещере — преступление, что он готов за свои слова отвечать.
— Хорошо, ваше предложение мы обсудим,— сказал я.
Командир отряда оказался человеком мягкотелым, слабым, держался главным образом авторитетом Ахлестина — партизана отменной храбрости, дерзкого. Но Ахлестин был убит в атаке, и у командира совсем опустились руки.
В эту же ночь мы решили покинуть пещеру. Терлецкий получил приказ уничтожить батарею у деревни Комары.
...Методично, через ровные промежутки времени, ухают немецкие пушки. Вспышки тревожат ночь; воздух как живой перекатывается по ущелью, с силой бьет п лицо. В небо взлетают ракеты, часто татакают пулеметы.
Рядом бродит одинокий луч прожектора с иссиня—розовыми краями.
Терлецкий, прижимая худое тело к жесткой подмороженной земле, ползет по увядшим травам с терпким запахом полыни и горного чабреца.
Когда луч убирался, партизаны перебегали. Они перемахнули через проселочную дорогу и пырнули под можжевельник.
Тишина была долгая, томительная, но вот снова ударили пушки.
Терлецкий видел, как в отсветах выстрелов у орудий копошились немецкие артиллеристы, посылая на Севастополь снаряд за снарядом.
— Скорее,— прошептал Терлецкий.
Залегли у самых пушек, передохнули и бесшумными тенями поползли ближе к расчетам.
Терлецкий вложил в противотанковую гранату капсюль, притих.
— Фойер! — кто—то скомандовал над самым ухом.
И через миг ударила пушка, другая, третья, четвертая...
Терлецкий видел расчет. Он ждал новой команды.
На этот раз она раздалась протяжным гортанным голосом: