О моем поведении думали и решали не одни мои зарубежные «друзья». Думал Станислав Адамович, думал Владимир Андреевич. «Жадность к деньгам показывайте, но никогда ничего не берите. Даже спичек не берите! Пусть на ваше имя в зарубежный банк вкладывают, как можно больше в банк! Чтобы там вам иметь капитал, куда вы за деньгами никогда не пойдете».
Как-то во время переезда на станции опрокинулись наши санки. Маленькие они были, старинные. Господин или госпожа сидели впереди, а ездовой сзади, на продольной дощечке. Вылетели мы в сугроб, Захарченко и я. Посмеялись и поехали дальше. В лесу ожидали наступления темноты, сидели часа два. Она тихо вела беседу, я отвечал на самые неожиданные вопросы. Словом, все как обычно, в норме. Потом по дозорным тропам пробрались к контрольной полосе, а по ней в сторонку метров сто и дальше, в центр можжевельника — к границе. Тут она была молодцом, лишнего следа не оставит! И вдруг, на самой границе, опять неожиданность:
— Назад поедем. Вы сани опрокинули, и мой пистолет из кармана выпал. Поедем искать. Найти надо! — настаивает Захарченко.
— Назад не повезу! Пограничная полоса не для прогулок, — отвечаю я. Понимаю: не дура, чтобы пистолетами разбрасываться, да и сама назад не поедет. Очередная проверка, не более.
Она настаивала и грозила. Сдалась только после моего категорического заявления о том, что брошу все и убегу в Финляндию. Я не скрывал от нее, что боюсь ее, как провокатора, и если что — удеру в Финляндию. Уже потом, через некоторое время из Москвы сообщили: Захарченко-Шульц писала из Парижа, что «основательно проверила «окно». Все там хорошо. Оно в руках осторожного и упрямого человека».
Последний раз через мое «окно» она прошла за два-три дня до перехода к нам С. Дж. Рейли. Не просто прошла-еще раз проверила. За день или за два до этого в Финляндию проследовал Радкевич. Тоже проверял, конечно. «Окно» выдержало эти проверки. И еще бы не выдержать! Оно было результатом усилий таких выдающихся чекистов, как Мессинг, Стырне и Артузов!
Со слов Стырне и Артузова мне удалось проследить до конца жизненный путь Марии Владиславовны Захарченко-Шульц-Стешинской-Вознесенской. Фамилию ее, из-за чрезмерной многоступенчатости, Артузов сократил наполовину, даже больше.
Ее столь нашумевшая попытка взорвать здание ОГПУ на Лубянской площади в Москве, о которой «даже в газетах писали», была только мистификацией. Хорошо разыгранной, безопасной и, можно полагать, унизительной для ее самолюбия. И тут, в который уже раз, она шла на поводке.
Гибель ее лишена романтики. Рядовая, как у всех активистов службы БС — бендеровцев. Она и принадлежала к ним, по крайней мере, духовно.
Гонялся и я за ней в эти последние ее дни. Моя группа ожидала ее в районе Нового Поля, у западного «окна». Не дошла она до нас. Зирнис перехватил.
Мое понимание Захарченко-Шульц — всего лишь одно из многих и различных суждений о ней. Впрочем, я и не претендую на его непогрешимость.
Прошел год, потом еще полгода, и я предельно устал от этих своих обязанностей. А тут и малярией успел заболеть, да еще в очень тяжелой форме. Времени для госпитального лечения выделить мне не могли. «Надо держаться, как-нибудь держаться», — внушали мне руководители. — «Не работайте на заставе — пусть работает помощник. Пусть там не будет большого порядка, но все равно не работайте. Запретим всякие проверки», — говорил Мессинг.
Но работа на заставе — это тот сучок, на котором я сижу, — внушал я себе. Глотал хинин по 10—12 порошков в день и тянул лямку. Нависли и другие опасности.
Однажды комендант Кольцов сообщил:
— Бомов что-то подозревает. На твою заставу все просится. Он говорил, что за тобой надо следить. Часто, мол, в Ленинград отлучается, даже разрешения не спрашивает.
— Ты что ему сказал? — спросил я.
— Оборвал его. Грубо оборвал. Сказал, что к зубному врачу ты ездишь и всегда с моего разрешения. Рекомендовал ему заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие. Самолюбивый он очень. Обиделся, но молчать пока будет…
— Молчать будет, но слежку усиливает. Хочет накрыть сам.
— Да, трудно с ним, — согласился Кольцов.
Пришлось доложить Мессингу. Тут же был кто-то из центрального аппарата. Подписку о молчании отклонили. Нельзя вводить в дело лишних людей, даже наших. Да и не успокоишь его подпиской! Хитер очень и упорный. Писать будет. А перевод его на другой участок невозможен. В годах он, не поедет. Если уволим, он — местный житель и охотник — еще больше времени будет иметь для слежки. Мессинг принял такое решение:
«По требованию Вяхя держать Бомова на участке фланговой Каллиловской заставы без права выезда столько дней, сколько будет нужно. Болтовню его обрывать».
Много дней и ночей ты, Бомов, по моей вине сидел в лесах Каллилово. Все осложнения там были выдуманы Кольцовым и Паэгле, чтобы не мешал. Так надо было!
Тебе стало труднее. Мне не стало легче. Это было безопасней для тебя и безопаснее для меня. И еще безопасней для интересов страны.
Поздно вечером я встретил на станции Захарченко-Шульц и ночью перебросил ее в Финляндию. Границу она переходила уже за полночь. Это и была моя последняя встреча с ней.
Рано утром следующего дня я ликвидировал следы перехода границы и собирался отдохнуть, но тут поступила телефонограмма, запутанная, как всегда: ясно, опять вызывали к Мессингу.
На этот раз у Мессинга было необычно людно. Незнакомые лица, некоторые — в штатской одежде. Одного я узнал — Владимир Андреевич Стырне, светловолосый, широкоплечий, по внешности видно — латыш. Я понял, что они уже посовещались. При мне говорили только о моей работе. Меня спросили:
— Бабу эту… благополучно переправили? Как она себя вела?
— Около часу ночи она перешла границу, — ответил я. — Жаловалась, что воды много и холодная. Разделась, и ее одежду пришлось перенести мне. Саквояжа не доверила. Сама в руке держала. В поведении ее ничего особенного не заметил…
— Она вас специально проверяла. Для этого и ехала.
— Ничего не заметил. Мы мало и разговаривали. Только часовая остановка и была у нас.
— Что вы знаете о Савинкове? — обратился ко мне Мессинг.
— Только то, что было в газетах. Еще книгу читал — «Суд над Савинковым»…
— О вашей работе знает Феликс Эдмундович и высоко оценивает. Вы сильно устали? — взглянул мне в лицо Станислав Адамович.
— Очень. И болею еще.
— Будут напряженнейшие дни, — предупредил Мессинг. — Сегодня надо переправить «Графа», вернется он оттуда завтра. За ним, через сутки — точнее время сообщит вам «Граф» — надо принять одного господина. Для нас тот господин в сотни раз важнее Савинкова! На какую станцию, по-вашему, лучше его доставить? Мы намечали Песочную.



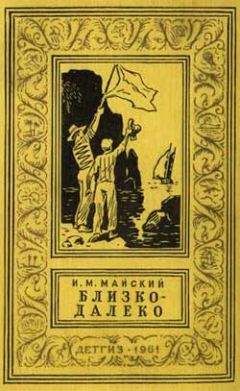
![Петр Петров - Борель. Золото [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/7610/7610.jpg)
