В лесу, чтобы согласовать наш приезд на станцию с приходом туда поезда, мы делали остановку на четыре-пять часов. Состоялся легкий, полушутливый разговор. Говорил больше он. Я выжимал воду из одежды, выливал ее из огромных болотных сапог и следил за конем.
Коня я оставил в небольшом леске, вблизи от станции, а сам отправился за билетом, надеясь, что мой пассажир не осмелится выйти из лесу, пока я хожу. Так и получилось. Он только отошел в сторону от коня и лег в кустах.
Подошел поезд, первый утренний, и пассажиров было мало. В тамбуре четвертого вагона я передал «гостя» тем двум чекистам, с которыми меня познакомили в кабинете Мессинга. Дело сделано!
При прощальном рукопожатии «гость» ловко и почти незаметно всунул в мою руку какую-то бумажку. Денег я никогда ранее не получал. Была же договоренность, что все деньги, которые я заработаю переброской через границу, поступят на мое имя в финляндский банк. Это — чтобы укрепить веру в моей продажности. Ведь в их понимании любой человек за своими деньгами непременно придет, даже из другой страны. Тяга к деньгам поэтому была логична и для меня, продавшегося за них холопа. О «чаевых» же я представления не имел. Ни малейшего. Поэтому полагал, что этот господин всунул мне в руку какую-то записку, возможно очень важную и срочную, и умышленно сделал это так, чтобы никто из присутствующих ее не заметил. Мимоходом скажу, что в числе принимающих от меня этого господина не было ни Якушева, ни Радкевича. Принимали его, как я уже сказал, чекисты, показанные мне Мессингом.
После отхода поезда я побежал, к фонарю, чтобы прочесть таинственную, как я полагал, записку, и был немало озадачен, когда обнаружил, что мне всунули три червонца. Никаких записей или проколов на них я не обнаружил.
По телефону, как было условлено, я через контрольно-пропускной пункт вызвал тот ленинградский номер, по которому обычно докладывал о выполнении задания. К телефону подошел Салынь, и я доложил: «Груз сдал», что означало: «гость» в пути, не убит и не сбежал. Далее: «Упаковка целая», — значит ножом не колол, и наконец: «Печать не повреждена», — моей роли «гость» не разгадал. За сдачу груза Салынь поблагодарил, а насчет денег сказал просто: «На чай ты получил, понял?» Намеками Салынь дал понять, что сейчас обратное движение такого же груза становится еще более вероятным.
Вспомнилась библейская легенда, знакомая с детских лет. За Христа тоже тридцатку дали! Серебром. Мне — червонцами. Если сумма денег была намеком, то этот господин ошибся. Я никого не продавал, а боролся с врагом тем оружием, которое выбрал он сам, враг. Я еще не знал, кто этот «гость», но у меня было радостное — ощущение удачи.
Усталость моя, по-видимому, была предельной. Держался на ногах только напряжением всех сил, и со мной случилось то, чего еще никогда не бывало, — уснул в пути и проснулся лишь у конюшни. Не сам проснулся, хозяин поднял. Застава своей конюшни не имела, и моя лошадь стояла у этого крестьянина. И хорошо, что она там стояла! Крестьянина, видимо, убедило мое бормотание: «Выпили ночью, уснул». На заставе бы начались разговоры…
Спустя пять-шесть дней я опять был у Мессинга. В последний раз. Людей тут оказалось много. Присутствовал Симанайтис, заместитель начальника отряда. Паэгле, — это я уже знал, — в те дни болел. Из Москвы, вспоминается, были Пилляр и еще несколько чекистов. Все они, москвичи, в штатской одежде.
Меня встретили приветливо, но в их поведении улавливалась какая-то настораживающая мягкость, какая-то особенная доброта, может быть, сочувствие. Говорил Мессинг. Иногда вмешивался в разговор энергичный и порывистый Пилляр.
Мессинг вначале сказал, что Феликс Эдмундович Дзержинский благодарит меня именем революции и что решен вопрос о моем награждении орденом Красного Знамени — единственной в те годы высшей правительственной наградой. Я, разумеется, был сильно взволнован такой высокой оценкой моей работы и, конечно, благодарен, но чувство настороженности не исчезало. Почему здесь так много чекистов? Что они решали без меня? И почему здесь присутствует Симанайтис?
Потом мне объяснили, что последний «гость», которого я доставил, это Сидней Джордж Рейли — начальник восточноевропейского отдела разведки Великобритании, личное доверенное лицо злейшего врага нашей страны Уинстона Черчилля и других активных антисоветских сил в западном мире. В его руках — все нити антисоветских планов заговоров и комбинаций, и все это он нам выложит. Важно только, чтобы англичане не помешали нам довести следствие до конца. А помешать они могут. Надо помнить хотя бы «ноту Керзона» и высказанные в ней угрозы. Потеря Рейли для них — горькая пилюля, но главное все же в ином — в том, чтобы доверенные ему тайны не стали нашим достоянием. Надо убедительно доказать английской разведке, что Рейли умер, что эти тайны ушли с ним в могилу. В интересах следствия также надо показать и самому Рейли его собственную смерть. Вот мы и решили на границе, в пределах видимости с финской стороны, именно в то время и там, где финны ждут возвращения Рейли от нас, разыграть его фиктивное убийство.
Меня спросили, где, по моему мнению, лучше всего устроить эту сцену? Я предложил небольшую открытую поляну между центром селения Алакуль и линией границы, до которой еще остается метров 50—100 открытого пространства. Финны, рассчитывал я, услышат голоса и увидят вспышки выстрелов, но выйти на выручку Рейли из-за дальности расстояния не осмелятся. Мое предложение приняли.
Потом меня познакомили с одним из москвичей, высоким, как Рейли, стройным и худощавым. Во всем он был похож на Рейли, разве только помоложе годами, «Вот этого товарища повезете, — сказали мне и предупредили: — Все должно быть, как всегда! Точно, как всегда. На границе вас встретят чекисты и там разыграют сцену «убийства» этого товарища. Руководить операцией будет Шаров».
С этого времени началось очень тяжелое для меня испытание. Чтобы придать убийству Рейли больше убедительности, потребовался еще и мой арест. Фиктивный, конечно, но — арест! Значит, первому эту пилюлю всунули в рот мне! Не сладкая пилюля, горькая. Проглотил я ее: сажайте! Просил только, чтобы меня, арестованного, не показывали моим товарищам, знакомым и подчиненным. Мессинг умолк. Он ничего не сказал. Не хотел, по-видимому, Станислав Адамович высказать мне этой тяжелой необходимости. Не хотел и обмануть. Остальные же торопливо и почти в один голос заверили: «Ну, конечно, зачем же»…
Понимал я, что все-таки покажут, всем покажут. Фиктивный арест не может быть тайным. Фиктивный арест — показной, он и делается, «с широким показом».



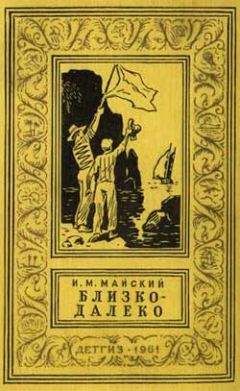
![Петр Петров - Борель. Золото [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/7610/7610.jpg)
