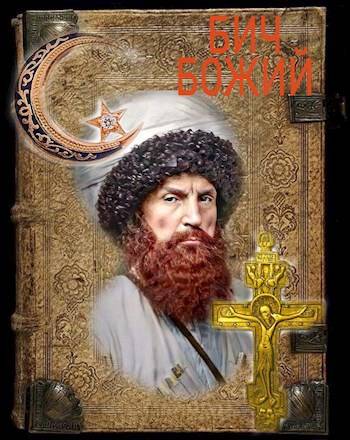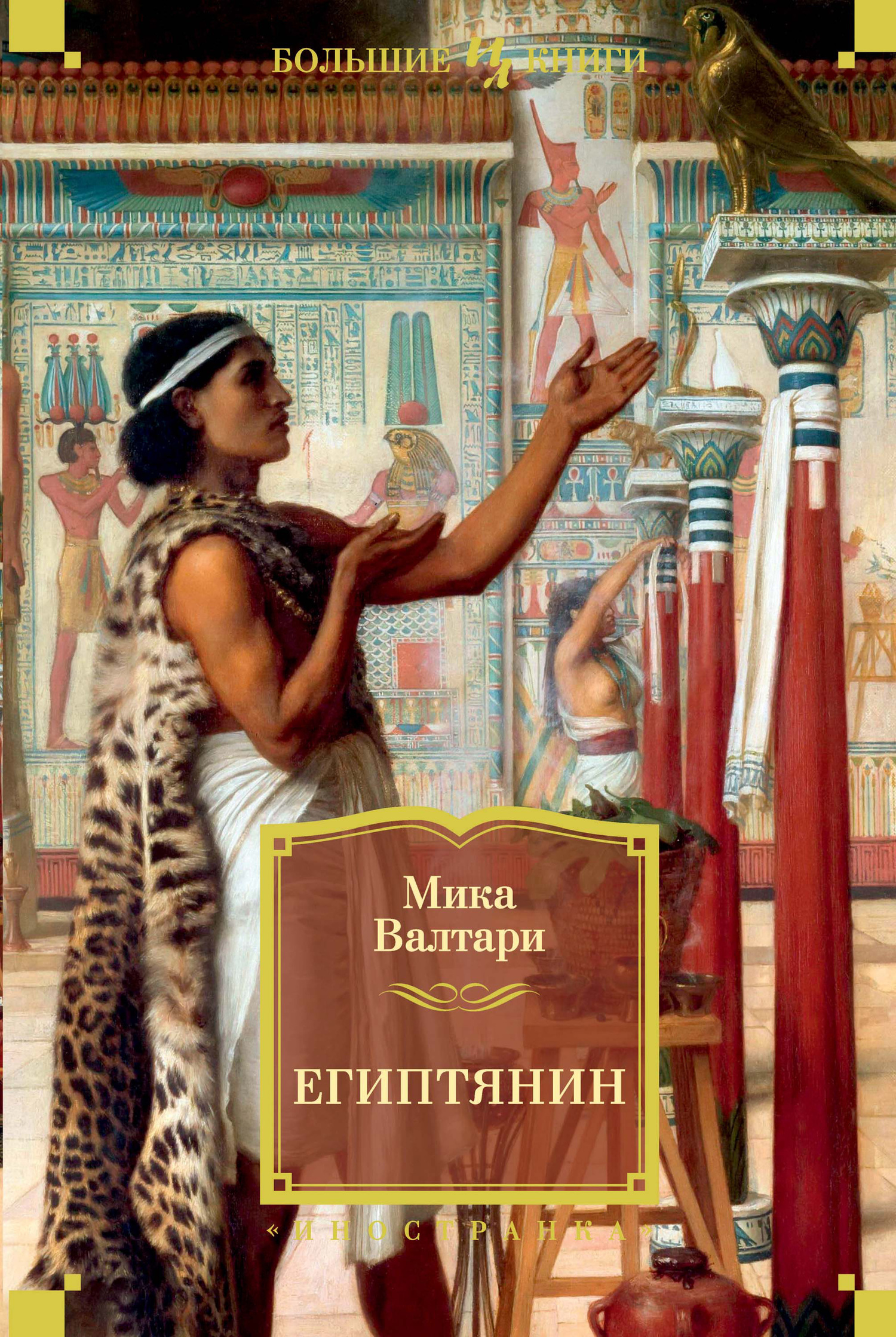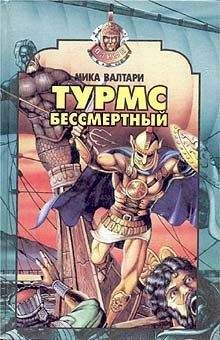— Но он же убежит — и я не успею схватить его! — в ярости вскричал я. — Я желаю хотя бы самолично отсчитать ему сто ударов по пяткам, а потом отправить на базар и побыстрее кому-нибудь продать.
Услышав это, Джулия заявила:
— Ты бы лучше помолчал, Микаэль. Сам не знаешь, что говоришь. Это мне надо просить у Альберто прощения. Я ударила его из-за какой- то ерунды, о которой уже и сама забыла. Не смотри на меня как дурак. Ты меня просто бесишь! А если у меня распухла щека, так это потому, что зуб разболелся! Я как раз собиралась в сераль, к лекарю, я тут явился ты и устроил всю эту неразбериху. Напугал меня до смерти — прокрался, как вор, словно хотел за мной шпионить, а ведь мне и скрывать-то нечего! Так запомни же: если ты Альберто хоть пальцем тронешь, я пойду к кади и в присутствии четырех свидетелей потребую развода!
Тут я пришел в бешенство и, схватив Джулию за руки, хорошенько встряхнул ее и закричал:
— Ты что, и вправду ведьма, Джулия? Или ты — дьявол в человеческом обличье? Дорожа собственным покоем, я не желал ничего знать, но всему же есть предел! Мне не хотелось думать о тебе плохо, ибо я все еще люблю тебя. Но ты ведешь себя более чем странно, позволяя рабу безнаказанно хлестать тебя по щекам. Нет, Джулия, я тебя просто не узнаю. Кто ты — и что у тебя общего с этим негодяем?
Джулия вырвалась из моих рук и, растирая запястья, затопала ногами, а потом с плачем запричитала:
— Да перестань же меня мучить, Микаэль! О, как я от всего этого устала! Если ты хоть чуть- чуть меня любишь, то иди к Альберто, извинись перед ним за меня и уговори его не покидать нас. Сама я не решаюсь приблизиться к нему: очень уж жестоко ранила я его гордость.
— О Аллах, смилуйся надо мной! — вскричал я. — Замолчи немедленно, или я пойду за мечом и прикончу этого подлеца. Ты же потеряла из-за него последние крупицы ума и совершенно забыла о приличиях. Ни минуты больше не желаю терпеть его в своем доме. Я хорошо тебя знаю и не сомневаюсь, что на самом деле ты ни в чем не виновата. Но даже рабыни хихикали бы у меня за спиной, если бы я позволил слуге безнаказанно бить мою жену, да вдобавок еще пошел бы просить у него прощения за свои грязные подозрения.
Джулия отчаянно разрыдалась, бросилась мне на шею, прижалась к моей груди и, потупясь, тихим голосом проговорила:
— Ах, Микаэль, я — лишь слабая женщина... Ты, конечно, умнее меня, раз не позволяешь чувствам брать над тобой верх. Ну давай хотя бы пойдем в мои покои, чтобы рабы не слышали, как мы ссоримся! Ведь мы же никогда раньше не бранились...
Она схватила меня за руку, и я покорно последовал за женой в опочивальню.
Утерев слезы, Джулия начала рассеянно раздеваться, одновременно говоря мне:
— Давай побеседуем спокойно. А я заодно и переоденусь, ибо хочу пойти к лекарю — показать зуб. Но не могу же я появиться в серале в этих старых тряпках! Ну, начинай! Ругай меня, обвиняй, в чем хочешь, ибо я тебе — плохая жена!
Она сняла с себя все, кроме тонкой рубахи. То и дело приподнимая ее, Джулия доставала один наряд за другим и внимательно их разглядывала, не в силах решить, в какие же одежды ей облачиться.
Честно говоря, она уже давно не баловала меня супружескими ласками и вечно жаловалась на жуткую головную боль, решительно пресекая все мои нежности. И когда я снова увидел ее нагую в ясном свете дня, меня потрясли мягкие округлости ее тела, соблазнительная белая кожа и золотисто-рыжие волосы, свободной волной ниспадавшие на обнаженную грудь.
Джулия вдруг заметила, что я жадно разглядываю ее. Лицо моей жены помрачнело, и она сказала с грустным вздохом:
— Ах, Микаэль, вечно ты думаешь об одном и том же. Не смотри так на меня. Взгляд твой оскорбляет мою женскую стыдливость. Если бы я только знала, что ты так уставишься на меня, я ни за что бы при тебе не разделась.
Она скрестила руки на груди, чтобы прикрыть наготу и глянула на меня своими удивительными разноцветными глазами, которые я, дурак, все еще любил. В ушах у меня зазвенело, все тело запылало огнем, и дрожащим голосом я посоветовал ей надеть зеленый бархатный наряд, расшитый дорогими жемчугами. Она взяла этот наряд в руки, но снова отбросила его и потянулась к просторным одеждам из желтой парчи, с пояском, усыпанным множеством драгоценных каменьев самых разных цветов и оттенков.
— В этом желтом одеянии бедра мои кажутся стройнее. Ты не находишь, что я немного раздалась в талии? — спросила Джулия. И тут же забыла, что стоит с нарядом в руках.
Она грустно смотрела в пустоту. Потом лицо женщины смягчилось, и она проговорила:
— Ах, Микаэль, признайся честно: тебе уже наскучила твоя жена? Ты всегда так суров со мной... Я уже давно чувствую, что общество твоих странных друзей тебе куда милее, и ты все больше отдаляешься от меня. О, ты даже не слушаешь меня — хочешь, наверное, увлечь меня на ложе. А потом, добившись своего, повернешься ко мне спиной, словно я для тебя — всего лишь...
— Но это же неправда! — воскликнул я, разозлившись, что она опять переворачивает все с ног на голову.
Но Джулия расправила кончиками пальцев свою рубашку и продолжила:
— Не надо притворяться, Микаэль! Будь со мной честным! Тебе достаточно пойти к кади — и ты тут же получишь развод. Как могу я навязывать тебе свою любовь, если равнодушие твое причиняет мне такую боль?
Джулия всхлипнула, но не остановилась:
— Любовь женщины капризна, и ее надо завоевывать снова и снова. А ты так давно не дарил мне ни одного цветка — и вообще не уделял мне никакого внимания. Может, поэтому я и стала такой раздражительной — и вот, обидела сегодня Альберто, который желает нам обоим только добра. Да, все это — твоя вина, Микаэль. Я ведь даже не помню, когда ты последний раз обнимал меня или целовал — так, как целует мужчина любимую женщину.
Эти глупые обвинения, в которых не было ни крупицы правды, настолько ошеломили меня, что я просто онемел. А Джулия, стыдливо приблизившись, прильнула ко мне своим теплым белым телом и прошептала:
— Поцелуй меня, Микаэль! Сам знаешь: ты — единственный мужчина, которого я любила и люблю. Лишь в твоих объятиях познала я восторги страсти. Но, может, ты считаешь меня слишком старой и поблекшей? Может, хочешь по мусульманскому обычаю взять другую, молодую жену? Но все равно — поцелуй меня хоть раз!
Джулия, казалось, не замечала, что тело ее едва прикрыто. Я приник к ее лживому рту...
Не буду говорить, что случилось потом, ибо умный все поймет и так, дураку же и объяснять не стоит. Замечу только, что через час я покорно спустился вниз, к Альберто, чтобы извиниться перед ним за Джулию.
Итак, в доме снова воцарился мир. Джулия скрыла под вуалью немного утомленное лицо, кликнула негров-гребцов и отправилась в сераль. И пусть тот, кто умнее меня, упрекнет меня в глупой слепоте — сам я не могу ругать себя за это. Влюбленный всегда слеп — будь он хоть султаном, хоть самым жалким из рабов. А чтобы сбить спесь с особо важных умников, могу посоветовать им сперва приглядеться повнимательнее к собственным женам, а потом уж осыпать презрительными насмешками меня и несчастное ослепление мое.
Кстати, ослеплен был не только я. Султанша Хуррем приняла Мустафу бен-Накира в присутствии кислар-аги. Сначала она разговаривала с дервишем из-за занавесей, но потом показала ему на миг свое улыбающееся лицо. И хладнокровный Мустафа вернулся из сераля совершенно другим человеком.
Он влетел ко мне, словно на крыльях. Глаза его сияли, а бледные щеки окрасились ярким румянцем.
Мустафа тут же потребовал у меня вина и розу. И с осенней розой в руке изрек:
— Ах, Микаэль, либо я совсем не разбираюсь в людях, либо мы ужасно ошибались в этой женщине. Хуррем-Роксолана — действительно прекрасная утренняя звезда. Кожа ее — как снег, щеки — как розы, а смех подобен звону серебряного колокольчика. Когда же заглянешь ты ей в глаза — кажется, что улыбается тебе само небо. В этой прекрасной головке не может возникнуть ни одной коварной мысли! В общем, Микаэль, я чувствую, что теряю рассудок. Просто не знаю, что мне думать о Хуррем — да и о себе самом. Ради Аллаха, Микаэль, добавь в вино амбры, позови музыкантов — и пусть пением своим усладят они мой слух, ибо душа моя полна самых дивных стихов мира, и, думаю, ни один человек на свете не переживал еще ничего подобного.