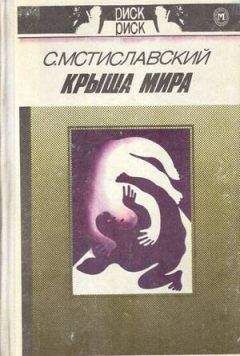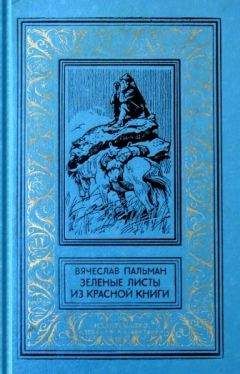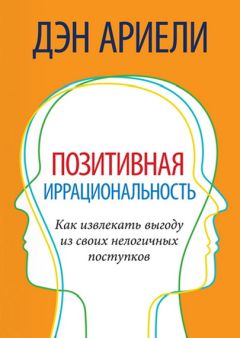Безумной скачкой миную мечеть, казарму артиллеристов, водоем… Башня у въезда… Караул рассыпается в стороны… Мимо, по скату вниз, крутым прыжком через придорожную канаву, в поле… Шпоры, шпоры… Ветер свистит в ушах. Из-под ремней уздечки, из-под потника, с удил — белая, хлопьями, пена…
Резким поворотом бросаю коня на ближайший холм. Закинулся. Шпоры опять… Вверх по косогору, полным махом. На полускате Ариман сбавил ход. Я огладил крутую, почерневшую от пота шею. Конь фыркнул, мотнул головою, приложил уши и пошел дальше уже на легком поводу. Шагом… Подружимся!
На обратном пути, у городских ворот, меня встретили Гассан, Салла, джевачи, Жорж, выехавшие следом. Ариман закинулся было снова. Но на этот раз я легко управился с ним.
Не заезжая во дворец Рахметуллы, мы двинулись к цитадели — резиденции бека. Рахметулла со свитой примкнул к нам на базарной площади, на которой развернутым фронтом выстроен был городской гарнизон, батальон пехоты, два взвода артиллерии. Трубы и барабаны, вперебой, заиграли национальный бухарский гимн.
Он мертвеца способен развеселить — гимн этот, в котором такты российского «Боже, царя» перемежаются с шансонеткой, полюбившейся и свое время эмиру паче всякого Глинки и Вагнера:
Маргарита, бойся увлеченья,
Маргарита, знай — любовь мученье…
Старательно выдувают, выкатив глаза, потные сарбазы… и ухает, как толстяк на купанье, огромный глухой турецкий барабан.
Подскакивает ординарец:
— Как кричать солдатам, когда я буду здороваться с ними: ваше пыство или ваше родие?
Командные слова в бухарском уставе русские.
Жорж смеется.
— Кричите «пыство», мы — студенты, у нас никакого чина нет.
— Даже никакой чин? Ого-го! — удивился ординарец и мчится докладывать.
У командующего парадом бухарского полковника сразу подгибаются коленки. Он вынимает шашку, опять вкладывает ее, дважды поворачивается на месте, поднимает было ногу в сафьяновом сапоге, но тотчас удерживает ее, выталкивает вперед ближайшего офицера и кричит гнусаво и тонко:
— На цириминальной марше!
Заклубилась пыль… Воют трубы, глуша подпискивание флейт… Ариман, выставив ногу, почесывает о колено морду: он совершенно спокоен. Я распустил повода.
— Здорово, молодцы!
Я кричу «под генерала Драгомирова»: в детстве большое он на меня произвел впечатление на параде. Непочтительно фыркает за спиной Жорж.
— Здравий желай, ваше — пыство!
Ряды заворачивают. Офицеры от шеренги подходят к нашей группе. Полковник пухлыми ладонями принимает мою протянутую руку.
— Будете смотреть ученье? — спрашивает джевачи.
У полковника в глазах прыгает застылый испуг. Шутка ли — без никакого чина!
— Нет. — Мы благодарим. Мы обращаемся к столпившимся офицерам с коротким приветственным словом. Полковник снова жмет руку радостно и крепко, до пота.
— На-краул!
Мы проезжаем дальше. Жеребец Рахметуллы — тяжелой поступью, голова в голову с Ариманом. Татарин молчит; и только у порога бекского дворца, когда я спешился и Ариман снова вздыбился в руках подхвативших его, толпою, конюхов, он сказал тихо, рядом со мною подымаясь по ступеням:
— Большое счастье, что у вас не было сегодня в обычное время припадка лихорадки!
— Припадка? — Я только сейчас вспомнил и искренно засмеялся. — Испуг излечил меня, Рахметулла. И потом: ведь малярия моя была вы, кажется, не поняли меня тогда — в сказке…
* * *
Обратный путь из цитадели прошел без приключений. Правда, Ариман опять не дал садиться и разбросал, как во дворе Рахметуллы, конюхов, но успокоился тотчас, как только я утвердился в седле, и шел до самого дома ровной ходой, подхватив лишь один раз, когда я вздумал закурить папиросу.
У самых ворот догоняет Саллаэддин.
— Когда будешь слезать — не давай конюхам держать коня; на ходу я смотрел: он подкован на три ноги.
— Ну, так что же?
Салла усмехнулся:
— Четвертую не дал, значит, ковать; должно быть, раньше был на нее закован…
— Я все-таки ничего не понимаю.
— Э, какой ты, таксыр! Когда лошадь закуешь, она долго потом не дается ковать. Такому коню, если его ковать, закрывают глаза и крепко-крепко держат, много-много людей держат, не то — убьет кузнеца. Так и твой конь. Когда много держат — думает: ковать будут — бьет. А так — он не должен бить. Конь без пороков: я осматривал…
Похоже на правду. Салла — знаток: барышничает лошадьми.
Подъехав к террасе, приказываю конюхам отойти, слезаю. Ариман делает вольт на месте, толкает лбом в плечо, легонько. Берусь за луку, сажусь: стоит смирно. Соскакиваю, приказываю конюхам взять: подбегают четверо — бьет. Все, стало быть, в порядке. Будем ездить.
* * *
Гассан за вечерним чаем уверяет, будто слышал сам, как секретарь Рахметуллы сказал, когда Ариман — тогда, во дворе — в первый раз взвился: «Ставлю десять золотых против пустой тыквы — он разобьет себе затылок!»
На что Рахметулла ответил: «Я не сто — тысячу золотых прозакладываю».
Жаль, некому было поддержать за меня заклад.
* * *
Рахметулла вечером не заходил.
* * *
Наутро Саллаэддин спрашивает:
— Будешь еще Рахметуллу дразнить? Видишь, первый раз хорошо вышло: какого себе коня выездил!
— И ты туда же, колченогий, — смеется Жорж. — Я тебе дам — подзуживать: вот пожалуюсь на тебя джевачи.
К джевачи у Саллы особое почтение; как же: сумка, сабля, фирман. Главное — ни за что не платит: все на эмиров счет.
— Э, джевачи сам будет рад: нашим всем интересно. Думай скорее: Рахметулла идет.
— Рахим! Отчего не обновлен дастархан?
Голос строгий, хозяйский. Рахим припадает к полу.
— Виноград снимают, милостивейший таксыр. Вчера особливо хвалили виноград великие гости.
— Чем же мне занять вас сегодня?
— Я хотел бы посмотреть ваши зинданы, Рахметулла.
— Мои зинданы? — Рахметулла смотрит мне прямо в глаза: вспыхнули в зрачках огоньки и погасли, затаились опять.
— Да. О них рассказывают такие ужасы.
— Вас беспокоит судьба воров и убийц?
— Непойманных больше, чем пойманных, дорогой хозяин. Но я уже второй раз во владениях эмира и ни разу не видал еще бухарской тюрьмы. А ваши здешние тюрьмы, говорят, образцовы.
— Мы не показываем тюрем, — хмуро говорит Рахметулла. — Тюрьму нельзя осматривать. Она — преддверие могилы: так мы судим. Из наших зинданов если и выходят, то только на казнь.
— Тем сильнее мое желание: дайте же мне побыть в преддверии могилы, Рахметулла.
Татарин помолчал, словно раздумывая.
— Хорошо. Я доложу о вашем желании беку.