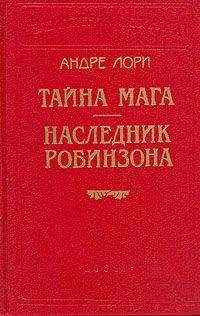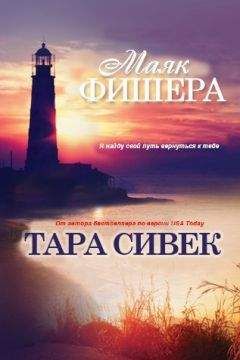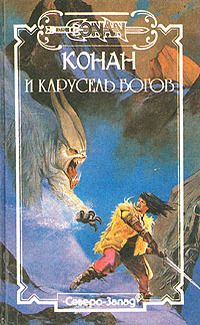Но в душе Кхаеджи уже проснулось подозрение, и усыпить его было нелегко. Давно уже в нем жило убеждение, что причиной всех несчастий, постигших в последние годы полковника Робинзона и его детей, являлась эта самая проклятая Кандагарская пластинка, которой он приписывал даже и гибель «Юноны». Но почему же это отверженное существо, этот пария, этот идиот так живо интересуется этой золотой дощечкой?.. Почему он вдруг, точно от прикосновения электрической искры, вышел при виде ее из своего обычного физического и морального оцепенения? Почему поспешил он снова принять прежний вид бессмысленности и апатии, как только заметил, что за ним наблюдают? Следовательно, он прикидывался все время, старался казаться не тем, что он есть на самом деле. Но в таком случае, что он за человек? Чего он добивается? Какая его скрытая цель?
Все эти вопросы один за другим вставали в голове Кхаеджи, и хотя он еще не подыскал на них точных определенных ответов, тем не менее в душе его стало зарождаться, как бы само собой, какое-то смутное предчувствие истины. Ему почему-то начинало казаться, что этого То-Хо, каким он видел его сейчас, он уже где-то видел. Где? когда? Кхаеджи не мог бы этого сказать, но какое-то смутное подозрение зародилось в нем. И Кхаеджи решил не спускать глаз с этого человека.
Напрасно То-Хо делал вид, что спит и что нисколько не беспокоится о том, что за ним наблюдают, Кхаеджи все же заметил, как он два раза полураскрыл веки и из-под ресниц, тайком, взглянул на окружающих. Проделал он это весьма искусно, но не Кхаеджи было ему обмануть такими хитростями, недаром же тот был прирожденным индусом.
Кхаеджи решил, что для более успешного наблюдения за То-Хо надо не подавать виду, что он наблюдает за кули, а потому повернулся спиной к носу шлюпки. Но и То-Хо, в свою очередь, успел поймать его взгляд, подозрительно следивший за ним, и этого было вполне достаточно, чтобы заставить его быть настороже.
Так продолжалось ровно двое суток. Никто из окружающих не замечал решительно ничего особенного, а между тем тут разыгрывалась целая драма.
На четвертые сутки плавания командиры шлюпок заметили, что бочонки с водой и вином, вместо того чтобы содержать по сто двадцать литров жидкости, содержали только по сто — так сильно было действие солнца в этих тропических странах, что то и другое испарялось с удивительной быстротой. Вследствие этого могло не хватить на два дня воды и вина.
К счастью, однако, явилась нежданно другая помощь: подул ветерок, и можно было поднять паруса.
Шлюпки гнало теперь с быстротой двенадцать узлов в час, без помощи весел. При таких условиях можно было рассчитывать достигнуть острова Пасхи через двое суток. Обрадованные этим нежданным облегчением, гребцы поспешили улечься под банки и заснуть.
Было уже за полночь, и капитан Мокарю, сидя сам на руле, казалось, один только не спал на командирской шлюпке, когда какая-то черная тень, скрывающаяся от него за парусом, беззвучно ползком стала пробираться к тому месту, где спал господин Глоаген, прислонясь к мачте. То был То-Хо, который, полагая, что Кхаеджи наконец утомился и заснул, перестав на время следить за ним, прокрадывался теперь осторожно между спящими. Добравшись до археолога, он улегся подле него и долго лежал совершенно неподвижно. Затем, протянув совершенно незаметно правую руку к груди своего соседа, он собирался, по-видимому, овладеть его драгоценным бумажником с Кандагарской пластинкой с опытностью карманного воришки, но в этот момент почувствовал, как другая железная рука схватила его руку, точно тисками.
Это была рука Кхаеджи, который, предвидя эту попытку со стороны То-Хо, успел предупредить о том господина Глоагена и просил его обменяться с ним платьем, шляпой и местом, что он исполнил ловко и проворно под прикрытием ночи, скрываясь за парусом.
— Аа… попался, голубчик! Я это знал!.. Я прочитал третьего дня в твоих глазах, что ты не устоишь против этого искушения!.. Так вот, теперь ты и попался!
То-Хо не отвечал ни слова. Он, вероятно, рассчитывал продлить еще свою роль идиота, но теперь его дело было проиграно. Капитан Мокарю, предупрежденный о том, что произошло, приказал вахтенному разбудить четверых людей, которым отдал приказание связать виновного и отвести его обратно на его прежнее место.
Все это дело обошлось без шума, но на следующее утро стало, конечно, предметом всеобщего разговора, только Кхаеджи не раскрывал рта. У него была своя мысль, которую он вскоре сообщил командиру, испросив его разрешение, на что тот утвердительно кивнул головой.
Не медля ни минуты, Кхаеджи вытащил из своего кармана походный бритвенный прибор, ножницы, брусок мыла, мочалку и, подойдя к связанному по рукам и ногам То-Хо, принялся совершать его туалет с проворством и опытностью настоящего цирюльника.
То-Хо покорно подчинился этой операции, неподвижно сидя с закрытыми глазами, несмотря на злостные шуточки и подтрунивая столпившихся вокруг него матросов. Перемена, происшедшая с ним вследствие этой операции, оказалась действительно поразительной и невероятной.
Прежде всего, человек этот был не негр и не метис, малаец или мулат, а просто человек, обладающий довольно смуглым цветом лица, и только вследствие густого слоя черной мази казавшийся чем-то вроде негра или мулата.
Но не только цвет кожи мог ввести в заблуждение наших друзей — человек этот, кроме того, сумел совершенно видоизменить свои природные черты, прикрыв их местами густым слоем какой-то замазки, придав липу совершенно другой овал и характер. Когда же Кхаеджи сумел искусно соскрести и удалить все это с его лица, то То-Хо вовсе уже не походил на себя, это был человек которого сразу узнали не только Кхаеджи, но и Чандос, и Поль-Луи, и Флорри, и господин Глоаген, — это был переводчик, пытавшийся совершить преступление над детьми полковника Робинзона и Полем-Луи, — это был аннамит из Сайгона!
— Кра-Онг-Динх-Ки!.. Я так и знал! — воскликнул Кхаеджи, отступая на шаг перед вновь созданным им аннамитом.
— Лодочник в белом тюрбане в Калькутте! — воскликнул почти в тот же момент, точно осененный каким-то воспоминанием, господин Глоаген.
— Да, право, это тот самый аннамит, который предлагал мне дезертировать, обменявшись с ним платьем! — заявил Кедик.
— Эге, приятель! — вмешался Комберусс на своем своеобразном диалекте. — Да ведь это мы с тобой так приятно провели вечер в кафе Сайгона! Как же не помнить, славно мы с тобой попировали…
— Накажи меня Бог, если этот мерзавец и негодяй не тот самый, который тогда принес кобру в дом! — пробормотал сквозь зубы Кхаеджи.
Теперь кули чувствовал себя разоблаченным физически и нравственно. Он смотрел кругом широко раскрытыми, свирепыми, почти зверскими глазами, в которых выражалась не столько ненависть, сколько высокомерное презрение ко всем этим людям и ко всей этой жизни.