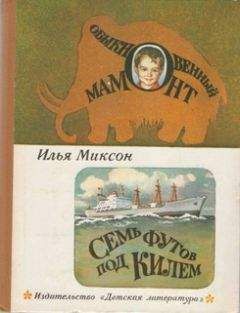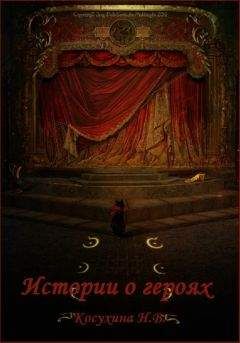Ни мига — потому что если он остановится и подумает о том, что сейчас делает, то вряд ли сможет довести эту операцию до конца. Скорее всего он бросится обратно к дюнам.
Надо продержаться неделю, надо добыть воду, росы может и не быть. В крови есть вода, а здесь была кровь — неважно, чья, верблюда или стервятника. Руби и режь, и ни о чем не думай — только о том, что это надо сделать.
Выжав два птичьих трупа, он взял их за лапы и отбросил как можно дальше. Стая кинулась на них, сражаясь за добычу, пока они с Кроу занимались трупом верблюда, уже искорёженным острыми клювами.
Сколько ушло времени, чтобы наполнить все три ёмкости, они не знали, потому что время превратилось в кошмар, лишилось всякой меры, теперь только нож и кровь имели для них значение. Работая, Кроу шептал про себя бессвязные слова, чувствуя, что ему нужно чем-то питать клокотавшую в нем ярость, потому что р ярости человек способен на такое, что в обычном состоянии выше его сил.
Стервятника, оттеснённого другими птицами от трупов своих обезглавленных сородичей, снова привлёк верблюд. Предвкушение крови подхлестнуло его. Как только его растопыренные когти коснулись трупа животного, Кроу прыгнул на него. От избытка переполнявшей его ненависти он даже не почувствовал, что когти впились в его руки, когда он в безумном броске сумел ухватить птицу за крыло. Мгновенно нащупав голую шею, он скрутил её. Только теперь замолк пронзительный крик. Кроу швырнул птицу на песок, вспомнив в этот миг, как над головой пролетала хищная стая, когда пропала надежда на возвращение Робертса. Пистолет был для этого слишком хорош — он расправился своими руками.
Белами не узнавал приятеля: вот что означает слово, которому обычно не придаёшь значения, — одержимый.
— Альберт, хватит! — Нож был красным по рукоятку, руки окровавлены до запястья.
Они подняли свои ёмкости и отошли от верблюда, слыша, как стая накидывается на него. Кроу остановился. В глазах кружилось. Он зажмурился и стоял с минуту, преодолевая тошноту и нахлынувшее желание броситься в песок, уснуть, забыться. Открыв глаза, увидел перед собой два холмика, сделанные, должно быть, Мораном и Таунсом. Низкое солнце далеко отбрасывало их тени.
— Пошли Альберт.
— Угу.
Их не пугала тяжесть полных контейнеров.
Когда добрались до дюн, там уже горел зажжённый для них огонь.
В четверг соорудили что-то похожее на детские качели. Ночь прошла нормально, но с понедельника все очень ослабели, и на некоторые операции ушло вдвое больше времени, чем планировал Стрингер. Превозмогая холод, боль и жажду, они закончили за последние двое суток работы по хвосту. Четыре рейки были протянуты от кормовой стойки к «кабине управления», представлявшей собой не что иное, как люльку сиденья и раму с рычагами.
Впервые появились признаки усталости и у Стрингера; но он не давал себе отдыха: это было ещё одно проявление его одержимости. Качели он сделал незадолго до рассвета, воспользовавшись ненужным лонжероном, уложенным на камне, а другой камень взял в качестве противовеса. Они по очереди садились на противоположный конец, и Стрингер взвешивал каждого, прибавляя и убирая мелкие камни.
— Думаю, мы попусту теряем время, — прокомментировал его занятие Таунс.
Стрингер палкой записывал на песке цифры. Моран — четыре единицы, Кроу — три, Уотсон — пять.
— Отношение плечей рычага, — продолжал Таунс, — всего несколько футов. Мы ведь не собираемся залезать на крылья.
Стрингер молча считал. Моран примирительно заметил:
— Это недолго, Фрэнк. — Он намеренно медленно протянул эти слова — как предупреждение.
— На жаре каждая минута — вечность.
Стрингер подводил итоги:
— Мистер Таунс, следующий вы.
Таунс, жмурясь от солнца, стоял в тени навеса, пилотская кепка сбилась на затылок.
— Думаю, мы зря теряем время, — проворчал он, но на качели встал. У Морана полегчало на душе.
Когда взвешивание закончилось, все тут же повалились на песок. Пока они спали, Стрингер работал. Заметив, что глаза Морана открыты, сказал:
— Я хотел бы объяснить вам, как нам предстоит размещаться, мистер Моран. — Он подождал, пока штурман поднимется. — Мистер Таунс сядет у рычагов с левой стороны фюзеляжа за обтекателем, установленным таким образом, чтобы направлять встречный поток воздуха выше головы. Позади него будут Белами и Уотсон, как самые тяжёлые. Я сяду справа по другую сторону, параллельно пилоту, за таким же обтекателем, — он нужен для уравновешивания лобового сопротивления. Со своего места я смогу давать пилоту необходимые указания во время полёта. Позади меня разместитесь вы, Кроу и Тилни — трое самых тяжёлых с левой стороны и четверо самых лёгких с правой. Кроме пилота и меня, всем остальным придётся лежать на животах, держась руками за ребра рамы. В этом сложностей не будет.
С основательностью тренера гребной команды он растолковывал Морану, какую им следует принять позу во время полёта. Таунс, лёжа в тени, прислушивался к монотонному голосу.
— Я сделал разметку на фюзеляже, мистер Моран, где нужно закрепить гнёзда для пассажиров. Полагаю, вам это понятно. Это довольно просто.
— Я понял. — Вести с ним диалог в таком духе было нетрудно, коль скоро вы усвоили, что не аллах, а Стрингер — единственный бог в этом пустынном аду. Надо только тщательнее выбирать слова и произносить их как можно почтительнее. Может, Стрингер и не хотел сказать: «Так просто, мистер Моран, что даже вы способны понять», — но хотел или не хотел, ответ мог быть только один. Последние два дня парень как в лихорадке, и его лицо — даже это лицо школьника — заметно осунулось: отсутствие воды и пищи тело возмещало нервами. Одно неверное слово Таунса — и он взорвётся, и «Феникс» никогда не взлетит.
— Сегодня ночью мы установим гнёзда, — продолжал Стрингер. — Днём я проверю рычаги управления. — Он снял очки. Закрыв глаза, прислонил голову к фюзеляжу, и Моран увидел, как расслабляется его лицо: конструктор напоминал сейчас монаха, погружающегося в медитацию.
Штурман тихо спросил:
— Так мы можем рассчитывать, что улетим в воскресенье?
— Не вижу ничего такого, что могло бы нам помешать.
«24-е сутки. Кончилась последняя вода. Сегодня утром выдачи не было. Работа продвигается, но все мы слишком ослабели, чтобы радоваться. Просто надеемся как-то продержаться».
Больше, кажется, писать было нечего. Обычно он упоминал об Альберте, но сегодня не нашёл ничего достойного внимания. Три дня назад он попробовал описать того Альберта, которого увидел там, у верблюжьего трупа, но не нашёл слов. Дневник ведь для того, чтобы записывать события. Сам он никогда не забудет длинный костлявый нос Альберта и его вопль в тот момент, когда он почти на лету схватил стервятника и голыми руками свернул ему голову, а потом крутил над собой чёрную массу перьев, продолжая издавать страшный воинственный клич. В этот миг лицо Альберта преобразилось. Это было похоже на некое символическое действо — что-то вроде Георгия и Змия, Добра и Зла, человека, побеждающего чёрного ангела смерти. Но в дневнике так не напишешь — покажется высокопарным.