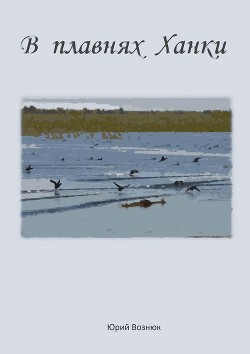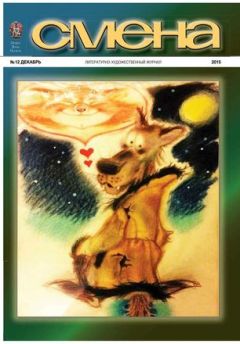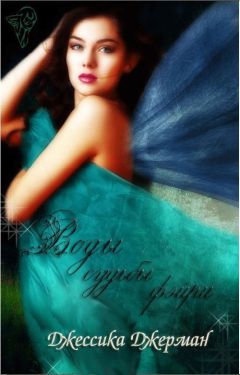Мне пришлось согласиться.
— Ну и начали после этого мямлить: «Охранять, оно, конечно, того —надо... но нужно подумать... Уменьшим-ка лучше норму отстрела дичи...» Норма отстрела... Фиговый листок! Не пойму, до каких пор мы будем обманывать самих себя, — голос Пикунова стал злым, — всем известно, что никто никаких норм не соблюдает, что практически их невозможно контролировать. Не будешь же рыться во всех рюкзаках и багажниках?! Дадут по шее — и правы будут. И вот знаем, понимаем и все же бежим по той же дорожке: то сочиним нормы, то вообще запретим охоту, то еще что-нибудь выдумаем. В общем, все, кроме одного, — разумного природопользования. — Он в возбуждении заходил по комнате.
— Дальше, — попросил я.
— Дальше в лес — больше дров: пошли разговоры, что заказник — это не заповедник, конечно, но все же... кое-что! При этом многозначительно поднимали вверх большой палец. Я съездил туда весной, и нам удалось доказать, что стоит это «кое-что». Пятьдесят протоколов за три дня! Когда мы с Абрамовым принесли их в комиссию, то нашлись чистоплюи, не постеснявшиеся сказать, что мы занимаемся не своим делом: дескать, нам нужно работать над научными рекомендациями, а не ловить браконьеров. Что оставалось делать? Двинули мы в крайком партии, щелкнули каблуками, отрекомендовались, так, мол, и так: научные сотрудники лаборатории охраны природы Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук! Хоть и длинно, но зато звучит! Очень кстати подоспела тут и эта статья, — Пикунов порылся в папке и показал мне вырезку из центральной газеты. — Глянь, какие зубры биологической науки поддержали нас!
Он ждал, пока я закончу чтение.
— Казалось, наступили золотые времена, — снова заговорил он. — Мигом было все подготовлено, оставалось лишь утвердить проект сессией крайисполкома. И вот в самый последний момент кто-то вдруг вспомнил, что плавни устья Илистой принадлежат трем районам и все они — колхозная собственность! Запьешь тут горькую!
С одним районом договорились быстро и по-хорошему, с двумя другими — никак. Грабят, видишь ли, их! Забираете земли, говорят, уменьшайте план мясопоставок! Как будто они своих телят в камышах выгуливают! И такой это спевшийся дуэт —только диву даешься. Вот что теперь прикажешь делать?..
Долго мы сидели с Пикуновым тогда. И уже перед расставанием глядя в темный провал окна, он задумчиво произнес:
— Кто бы научил, как достучаться до сердца человека, чтобы он наконец сказал о природе: «Черт возьми! Ведь я же стану нищим, если разбазарю все это!»
Впервые за время знакомства я уловил в его голосе нотки растерянности.
Неслась из приемника бравурная музыка. За окном мчались по асфальту, поблескивая лаком, автомобили, сверкали неоновые рекламы, шли по тротуарам нарядные, улыбающиеся люди. А на столе перед нами, запечатленная бесстрастным фотообъективом, кружилась над горящими плавнями Ханки стая журавлей. Черный
Дым пожарища поднимался высоко в небо, и мне казалось, что я слышу и зловещий гул огня, пожирающий беззащитный тростник, и чувствую запах гари в воздухе.
Через два месяца, вернувшись из командировки, я застал дома записку: «Где тебя нелегкая носит? Снова в седле. Дмитрий!» Я поехал к нему, но дома Пикунова не оказалось. Где он был, я узнал много времени спустя.
Судьба свела Дмитрия Пикунова с директором биолого-почвенного института Петром Григорьевичем Ошмариным, человеком удивительной судьбы, потерявшим на войне ступни обеих ног, по не изменившим своей страсти путешественника и исследователя. Этот человек писал умную и добрую книгу о природе, об удивительном мире животных, так неразумно притесняемых человеком, и встреча его с Пикуновым оказалась встречей двух родственных душ. Книга была немыслима без фотографий, и кто, как не Пикунов, мог достать их, и куда, как не на Ханку, пригласил он Ошмарина. Три недели кормили они комаров в камышах, снимая на пленку жизнь обитателей плавней, потом перебрались в Сихотэ-Алинский заповедник, продолжая начатое уже в тайге.
И тут случай подарил Пикунову редкий кадр. Это случилось на восьмой день его одиночного путешествия вдоль берегов глухой таежной речки. В течение всего похода единственным оружием Дмитрия оставались рыболовные крючки и ставший уже привычным фотоаппарат Устроившись па подстилке из опавших листьев, Пикунов отдыхал, когда неподалеку раздался треск. Рука потянулась к камере да так и застыла в воздухе. В пятнадцати метрах от него из кустов вывалилось бурое страшилище. Не замечая человека, медведь совершенно спокойно прошел рядом и остановился, принюхиваясь. Унимая грохот сердца, Пикунов навел объектив. Чуткие уши зверя уловили щелчок затвора, и, круто развернувшись, он уставился на Пикунова.
Тот оторопел. Как быть? Сколько они с Ошмариным бились над тем, как установить контакт с хищниками в их естественной среде. Тогда они пришли к мысли — при помощи доброй интонации человеческого голоса. На свои деньги — ни один бухгалтер не утвердил бы подобных расходов! —они тогда купили две канистры свежего меда и вымазали им деревья в подходящем, по их мнению, медвежьем углу. Установили портативный магнитофон с записью своих голосов. По замыслу, магнитофон включался, как только медведь, увлекшись медом, задевал за одно из пусковых устройств.
Соль опыта состояла в том, что после того, как медведь привыкнет к их голосам, установить с ним личный контакт. И Пикунов, и Ошмарин верили: зверь способен понять добрые намерения человека.
«Надо заговорить с медведем. Проверить...» — вихрем мелькнула мысль.
Но что сказать? Ничего не приходило на ум.
— Здравствуй, Миша! Ну, как тебе нравится мед? — совершенно неожиданно для себя произнес Пикунов слова, когда-то записанные на магнитофон, и тут же подумал: «Господи, при чем здесь мед?»
От звука человеческого голоса медведь вздрогнул и переступил с лапы на лапу.
Пикунов не шевелился. Хребет зверя достал бы ему до подбородка.
— Дай лапу, дружище! Ведь мы с тобой дети одной земли, — снова с ужасом услышал он собственную речь.
Лохматый сын земли, что-то уркнув, сделал шаг вперед.
«Он что, в самом деле хочет обняться?» — лихорадочно пронеслось в мозгу Пикунова.
Голова начисто отказывалась что-нибудь соображать, но язык сам, без подсказки, молол черт знает что:
— Неплохо б дерябнуть по этому поводу, а?..
Глупые эти слова были тоже на магнитофонной ленте!
Медведь облизнулся.
«Ну, все! — подумал Пикунов. — Выпивки не будет, но закуска, кажется, состоится...»
К счастью, все обошлось благополучно. Овладев собой, Пикунов поднялся на ноги и, продолжая разговор, начал постепенно отступать. Когда дистанция оказалась достаточно приличной, медведь потерял интерес к беседе и удалился.
С полковником в отставке Степаном Петровичем Коротковым мы замыслили одну охоту давно. Долго готовились и наконец вылетели самолетом в обетованные
охотничьи места на северо-востоке края. Коротков много лет служил в пограничных войсках, везде у него были знакомые и друзья, и к нашему приезду на реку Самаргу нас ожидало уже приготовленное зимовье, приткнувшееся на самом берегу реки, километрах в шестидесяти от устья.
Я не был на зимней охоте много лет и потому, забравшись на сопку, с несказанным восторгом смотрел на взлет таежных хребтов и провалы долин, припорошенных серебристым убранством зимы.
Первым делом мы с Петровичем устроили охоту на кабанов и за три дня запаслись мясом на все время пребывания в тайге. Потом расставили капканы на колонков и наконец занялись промыслом белки. В тот год зима стояла мягкая и малоснежная, белка охотно выходила на жировку, и мы каждый день возвращались с добычей. Спутник мой оказался человеком покладистым, с чувством юмора, и долгими зимними вечерами, обрабатывая шкурки, я с огромным удовольствием слушал рассказы бывалого чекиста. Так прошло почти два месяца.
Наступило тридцатое декабря. Днем мы наловили в полынье на речке ленков, а вечером Петрович занялся заготовкой пельменей к новогоднему столу. Было часов девять, когда за степами зимовья раздался скрип полозьев и чей-то голос громко произнес: «Тпрр-у-у!» Закрывшись от света лампы, я прильнул к окошку и в темноте увидел нарты и человека, но не заметил лошади. Дверь в зимовье открылась, и вместе с клубами морозного пара в него шагнул человек, обнесенный куржаком инея на бровях, ресницах и короткой русой бороде, одетый в лосиные улы, шинельного сукна куртку и такие же брюки. Он снял с головы шапку и тряхнул ее об колено.