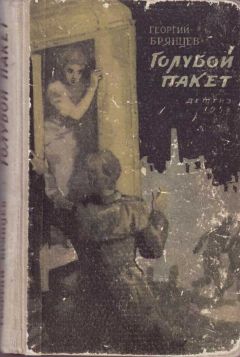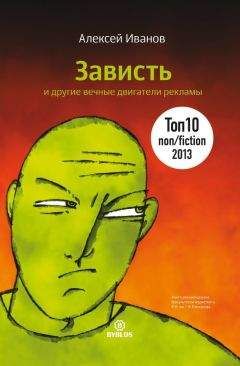В дверь постучали. Вошел обершарфюрер и, выбросив вперед правую руку, приветствовал шефа:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! — рявкнул Штауфер, и это прозвучало так, будто он хотел сказать: «Подите вы к дьяволу!»
Гестаповец подошел поближе к столу и нерешительно кашлянул.
— В чем дело? — с раздражением спросил Штауфер.
Обершарфюрер вобрал в себя воздух, с шумом выпустил его и доложил:
— Минувшей ночью господин Готовцев, под кличкой Филин, покончил жизнь самоубийством…
Короткие брови начальника гестапо медленно поднялись вверх, глаза округлились. Он потихоньку отвалился на спинку кресла и застыл в неподвижной позе с полуоткрытым ртом.
Обершарфюрер растерянно переминался с ноги на ногу и колебался: продолжать или выждать.
Он предпочел последнее и, не мигая, смотрел в ошалелые глаза своего начальника.
— Как покончил? — чуть не шепотом спросил Штауфер после нескольких томительных секунд.
Обершарфюрер, рассудив за это время, что он не является виновником события, несколько приободрился и, имея в виду главным образом «как», ответил:
— Вогнал себе пулю в область сердца из пистолета русского образца модель «Т».
Обершарфюрер на всякий случай сделал шаг назад.
Штауфер схватился руками за край стола, точно собирался сдвинуть его с места, и своим визгливым, бабьим голоском вскрикнул:
— Откуда у него пистолет?!
— Не могу знать, господин гауптштурмфюрер! — последовал быстрый ответ.
— Где это произошло? Когда? Откуда и как вы узнали? — посыпались нервные вопросы.
— Произошло это, как я уже вам доложил, на собственной квартире Готовцева и, по всей видимости, ночью или перед утром. Утром жена Готовцева вернулась домой и нашла его мертвым. Она тотчас же заявила в полицию.
— А где была в это время жена? — спросил Штауфер.
— Это тоже выяснено. Жена его работает телефонисткой на городском коммутаторе. До часу ночи она дежурила, а потом пошла в гости к своему родному брату, у которого и осталась ночевать.
— Кто такой ее брат?
— Брат? Брат — парикмахер, отличный мастер и ни в чем предосудительном не замечен. К тому же инвалид.
— Вы были на месте?
— Так точно.
— И почему решили, что тут именно самоубийство?
Этот вопрос не смутил обершарфюрера. Он объяснил:
— По обстановке в комнате, по направлению выстрела, по положению тела…
— А пулю, пулю нашли?
— Да, то есть никак нет! Пуля сидит под левой лопаткой, и при вскрытии ее, наверное, удастся извлечь.
— Где труп?
— В морге городской больницы.
Штауфер шумно вздохнул и, подойдя к окну, уставился отсутствующим взглядом на площадь. Минуту спустя он повернулся, присел на подоконник и сказал:
— Н-да… Странно! Не могу согласиться, чтобы Готовцев сам покончил с собой… Никто не убедит меня в этом. Он трус. Понимаете, трус! А трусы, да будет вам известно, никогда не расстаются с жизнью по высшим соображениям. Это истина, не требующая доказательств.
— Пожалуй, да, — вынужден был согласиться обершарфюрер, хотя в душе был не согласен с теорией шефа и имел на этот счет свое мнение. Но ему хотелось поскорее закончить этот неприятный разговор.
— Соседи у Готовцева были? — поинтересовался Штауфер.
— Так точно! Были и есть! Дом, в котором он проживает, состоит из двух самостоятельных квартир, по две комнаты в каждой. В квартиру Готовцева вход с улицы, а в другую — со двора. Соседка его — пожилая женщина с двумя детьми.
Муж — пивовар, по добровольному желанию выехал в Дрезден и работает там на пивном заводе. Фамилия его Монаков. По картотеке не значится. Я допросил ее. Она была дома. Говорит, что проснулась от какого-то короткого стука, но не может утверждать, что это был именно выстрел. Вот и все.
— Да, именно все! — иронически подчеркнул Штауфер и отпустил подчиненного.
На дневном допросе Штауфер почему-то не прибегнул к побоям. Гестаповец в штатском, склонившись над бумагой, добросовестно заносил в протокол все вопросы, задаваемые Штауфером, и терпеливо ожидал ответа. Но напрасно. Арестованная молчала.
Скоро Штауфер ненадолго отлучился. Гестаповец в штатском встал из-за стола и, подойдя к Тумановой, крепко молча пожал ее руку повыше кисти. Взглянув на нее с состраданием, он шепнул:
— Прошу вас, доверьтесь мне! Спасение возможно!…
Разведчица ничего не ответила. Страшная жажда мучила ее. От внутреннего огня мутился рассудок, окружающее воспринималось в каком-то тумане.
Штауфер вернулся. Допрос продолжался недолго. Через час ее отвезли обратно в тюрьму.
Обессиленная, Туманова опустилась на койку и уронила голову на руки. Ей хотелось заснуть и не проснуться, чтобы не испытывать этой непереносимой жажды. Но страх, что вдруг она уснет и действительно никогда больше не проснется, заставил ее подняться. Она стала ходить по камере, напряженно думая о гестаповце в штатском. Мучительные раздумья вконец обессилили ее, и она снова бросилась на твердую, как гранит, койку.
Прошедшим утром Туманова твердо решила делать все, чтобы ускорить приход смерти: она откажется от еды, будет вести себя со Штауфером так, чтобы он ее избивал до потери сознания, ляжет спать не на койку, а на ледяной каменный пол. Но теперь, вернувшись с допроса, она думала о другом: жить, бороться! Мучиться, но жить до последней возможности.
Она не отказалась от обеда и съела пересоленную свекольную похлебку и горстку консервированных бобов. Жажда с новой силой охватила ее. Начались кошмары. В мозгу толпились бесформенные мысли, плыли бессвязные картины. Все это жило какое-то мгновение и опять уходило.
Только часам к одиннадцати Юля забылась в тревожном сне. А в два часа ночи дверь открылась, и в камеру вошел только что заступивший на дежурство тюремщик Генрих.
Заключенная спала и что-то бормотала во сне.
Дежурный с несвойственной ему подвижностью быстро спустился по ступенькам и прислушался.
— Мне нужен Чернопятов… Только Чернопятов!… Нет, вам я ничего не скажу! — бормотала она.
Дежурный зарычал и своей огромной ладонью шлепнул Туманову по лицу. Она в испуге вскочила, спрыгнула с койки и прижалась к сырой стене. Она смотрела на Генриха, сложив руки на груди и пытаясь унять бурное дыхание.
В это время в камеру вошли трое: Штауфер, гестаповец в штатском и обершарфюрер.
Дежурный неуклюже потоптался на месте, хотел было что-то сказать, но Штауфер сделал движение рукой, и он исчез.
— Буйствуете? — заметил с язвительной усмешкой Штауфер, обводя взглядом камеру.
Разведчица молчала, не сводя с него измученных глаз.