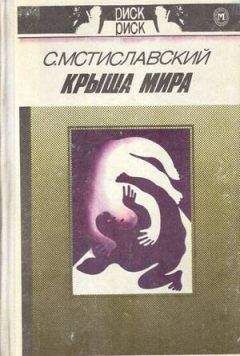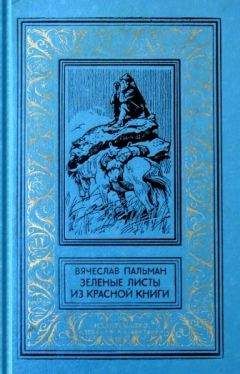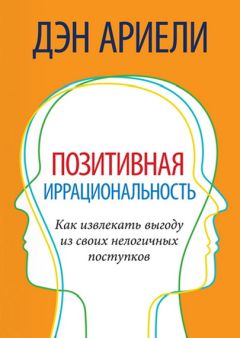Только подходя к Бальджуану, ожил наш караван. Город по ту сторону Кызыл-су: предстояла переправа вплавь, так как ни моста, ни брода нет. Подошли мы к реке к вечеру. И караул-беги, высланный нам навстречу беком бальджуанским с тремя-четырьмя десятками джигитов, усиленно просил: заночевать на берегу, отложив въезд в город на следующее утро: пока доберемся — ночь сойдет: вида не будет. Да и ехать после переправы придется Большим Бугаем — островом, что залег между двумя руслами реки; камыши и затоны на многие версты. Много зверя. По ночному времени — не случилось бы чего: и днем-то по Бугаю небезопасна езда!
Мы сделали уже в тот день около шестидесяти верст — по дикой жаре: ведь местность по правому берегу — степь да каменистые увалы. Разломило колени и плечи: этот довод не учел уговаривавший нас караул-беги: а с него бы ему и начать. С наслаждением растянулись мы на мягких коврах под белыми кошмами раскинутой у самой воды юрты; нижние полотнища откинуты: сквозь редкую решетку юртового костяка рябит река — быстрая, чуть всплескивающая по прибрежному песку разбегом мутных, кирпично-красных под закатным солнцем волн. За рекой — синеватой темной полосою протянулась сплошная стена камышей: кажется, слышно, как шелестят, кивая, гибкие стебли.
От костров, дразня застоявшийся голод (с полудня мы шли без привала), тянется запах жареной баранины и сала, расплавленного под плов. Караул-беги, приглашенный в юрту, тихим распевом рассказывает о Бальджуане.
— Благодарение богу-питателю и мудрости бека бальджуанского хороша жизнь в Бальджуане. Воды вдосталь, а стало быть и урожай тучный: прибыльно торгует зерном Бальджуан. Промышляет народ и иным: и мату ткут, и шелк прядут, и набойкой расцвечивают ткань. Промывают золото: по притокам Кызыл — песок золотоносный. Плодится без меры, можно сказать, скот на горных пастбищах. Подать легкая, бек милостивый: хороша жизнь.
— И охота здесь чудесная, надо думать? — показываем мы на камыши.
— Тце, тце, — сокрушенно щелкает языком бальджуанец. — Охоты у нас нет! По всей округе — и в Большом и в Малом Бугае и в горах — зверь заповедный: тигру отдан. Кормит тигров, по наложенному на него обету, Бальджуан. За то, что от него, от Бальджуана, пошли, на пагубу людям, тигры. Раньше, до того как стал город, их не было.
— Как не было? — восклицает Салла, выпячивая бороду, как мулла на ученом споре. — Разве Худан-Питатель не создал тигров тогда же, когда создавал и прочих животных?
— Трижды благословенна память Мухаммада и Искандера! — Караул-беги воздевает руки. — Зачем было бы создавать богу милостивому пожирателя скота и людей? Нет, доподлинно человечьим грехом создан тигр — здесь, в Бальджуане.
— Как было дело? Расскажи, досточтимый.
Бальджуанец усаживается плотнее.
— Зачинался Бальджуан — не там, где ныне его стены, а ташей[6] на десять к югу, по реке вниз, ближе к Большой реке. Был тогда ханом Соудж: слава о нем до френгских, и фарсийских, и китайских земель. Песенной был он силы и храбрости. Шел с ордою от Каспия; за Кызыл-су остановили Дивьи горы: там, на восход, за Дивьей заставой, государству не быть. Стал строиться на берегу. И посетил в те поры его таборы святой Алий. Во образе древнего нищего старца ехал святой Алий, и не на коне, а на ослице с осленком. Притомился осленок от трудного, от долгого пути: идет, шатается. А навстречу едет со стройки Соудж-хан, гневный: не вывести строителям угловой башни — трех мастеров замучил на пытке, а толку все нет. Алий говорит: «Высокий повелитель, приюти осленка, видишь — он маленький, он ослаб и устал, не поспевая за матерью, а путь мне долгий. И корму ему — немного: горсть ячменя — будет сыт». — «Поезжай стороной, дребезга, — кричит Соудж, — не заметывай конского хода поганым ишачьим следом. А осленка твоего брось собакам, если ему время пришло подыхать!» — «Не говори так, — усовещевает Алий, — ишак добрый зверь, святой зверь, помощник человеку — страстотерпец». Вынул Соудж саблю, свистнул по воздуху клинком: «Вот мой помощник — другого мне не надо. И страстотерпец! Каждый день терпит страсть: в ножнах не залеживается. Пошел! Пока я не почесал тебе этой булавочкой за ухом». — «Пожалей осленка, — опять говорит Алий. — Посмотри, какой он слабенький, как у него ножки дрожат и уши сложены, как ладони правоверного на молитве». — «Плюю я, — говорит Соудж, — твоему правоверному и в правую и в левую ладонь. Я творю намазы и блюду Коран, и муллы не нахвалятся моим благочестием: я плачу десятину без утайки. А ты мне гнусавишь в ухо бормотней об ишачьей молитве. Не досмотрел я: мне казалось, передо мною ослица и осленок, — а тут еще целый старый осел — и ладони у него сложены на молитву, как правое и левое ухо у ишака». (Святой Алий вознес в то время руки — на очередную молитву.)
Заскорбел тогда душою святой Алий и говорит Соуджу: «А я все-таки оставлю тебе осленка; будешь его кормить». Сказал осленку слово — тот остановился. «Ты ошалел, старый! — кричит хан. — Зябирай внучка!» — «Нет, — отвечает Алий, — мое слово крепко: будешь кормить этого зверя. Не захотел кормить его тихим и добрым — будешь кормить его злым; не хотел кормить ячменем — будешь кормить мясом». — «Не человечьим ли?» — смеется Соудж. «Да, и человечьим по твоему слову». Сказал Алий и поехал. А осленок стоит. «Пошел, догоняй своих!» — кричит Соудж и бьет его нагайкой. Вся спина в черных полосах стала, а от них — расходится по шерсти красная кровь: а все стоит осленок по заклятию святого Алия. «Смотри, — хохочет вдогонку святому Соудж, — каким полосатым красавцем стал твой внучек, старый ишачище! Гей, джигиты, срубите ему с хвоста кисточку, чтобы старику было чем обмахивать свои гнилые кости. И уши подрежьте, чтобы стал еще красивее дареный нам зверь!» Подскочили джигиты, срезали уши ишаку — по самый почти корень. Обернулся на холме — далеко уже уехал — Алий, поклонился умученному осленку. А Соуджу мало. «Укоротите, — кричит, — ему морду: слишком много корму посулил ему старый дурак». Ударил джигит секирой — снес осленку половину морды, кричит в испуге: «Кровь нейдет из разруба, великий Соудж, и зубы все вобрались в челюстную основу, и осколки костей приросли клыками, страшнее кабаньих клыков». — «Не робей, — отвечает хан, — колдовство для грудных ребят! Подруби ему копыта — далеко не уйдет». Четыре секиры — на четыре ноги. Ударили разом… И снова кричит Соуджу любимый джигит: «Беда, таксыр, не идет кровь, налила ноги — стали они гибкими и толстыми, и осколки костей вросли когтями под кожу». Вздыбился под Соуджем конь… диковинный зверь стоит на месте осленка: клыки и когти, лоб широкий и крепкий, красно-желтая в черных полосах шерсть. «Подай копье — не быть бы худу!» Не успел подбежать джигит: пригнулся зверь, ухватил его поперек тела и ринулся в камыши. А Алий из далекого далека говорит: «Не хотел кормить ишачонка, будешь кормить тигров». Так по слову его и сталось. Опомнился Соудж — да поздно. С тех пор дает Бальджуан пищу тиграм не споря.