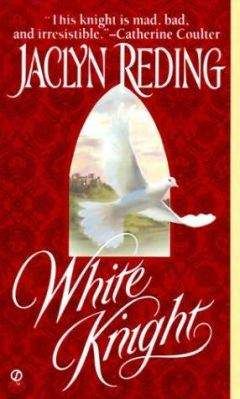Из всего этого я делаю совершенно новаторский и поразительно мудрый вывод: лучше, чтоб всюду все было хорошо, чем в чем-то хорошо, а в чем-то плохо! А? Мыслитель.
В конечном счете я доволен службой, женой, едой, погодой, словом, всем на свете.
Мне нравится вставать ни свет ни заря. Выбегать на прохладный горный воздух, делать такую зарядку, что килограмм долой, плескаться под самодельным холодным душем, съедать завтрак, который у других составил бы обед, помноженный на ужин, и идти в «ставку», где сразу же окунаюсь в работу.
Мне нравится, что моя Зойка красивая, веселая, добрая, энергичная, что мы с ней редко ссоримся и часто радуемся, что она хорошая хозяйка и замечательная любовница, что мне не приходится ее ревновать, а ей меня. Мне вообще все больше нравится моя семейная жизнь. Я люблю смотреть на Зойку, когда, очень рано поднявшись, ухожу в ванную, а она продолжает спать, вмявшись румяной во сне щекой в подушку, со спутанными волосами, с высунувшейся из-под одеяла голой коленкой, люблю слушать в эти минуты ее легкое дыхание.
Мне нравится, что ночью в кромешной темноте я иду так же уверенно и бесшумно, как днем, не скрипнув, не хрустнув, что так же бесшумны «секреты». Я радуюсь, что следовую полосу за ночь не покрыли следы, с вышки не увидели ничего подозрительного, что Чумакова приняли в комсомол, а Зайцева никто больше не застанет с бутылкой пива в кустах.
Ко мне приходит старшина. Он изо всех сил пытается скрыть переполняющую его гордость. Но человек бесхитростный, сделать это не может, он сияет как его сапоги.
Изо всех сил изображая равнодушие, говорит:
— Пишут люди, пишут, будто им делать больше нечего…
— Да ну, — удивляюсь, — и что пишут?
— Да вот, один был у нас, ничего, толковый паренек, вес-точку прислал…
Старшина нерешительно протягивает помятый листок. Читаю вслух.
«Уважаемый товарищ старшина (кроме как «старшиной» нашего старшину никто никогда не называет). Я не забыл Вас и до сих пор часто мысленно советуюсь с Вами. Я вот смотрю сейчас издали на свою службу у Вас на заставе и только сейчас начинаю по-настоящему понимать, какой удачей было то, что я попал служить к Вам, именно к Вам. Это была не просто служба, это была настоящая ломка всего дурного в моем характере, я начал больше мыслить, стал намного серьезнее и глубже смотреть на жизнь…»
— Да, — говорю, — такое письмо побольше, чем благодарность в приказе.
— Да ну, что вы, товарищ лейтенант, это так, написал небось из вежливости, — заключил старшина, но я вижу, как он доволен.
А ведь действительно, такое письмо — награда. В нашем деле не только с нарушителями границы надо воевать, но и с нарушениями порядка в человеке, в его характере, привычках, мыслях. (Совсем уже стал офицером-педагогом! Так что учу, но и учусь.)
Я ловлю себя на том, что самым трудным для меня на заставе является необходимость спать, да, да. Ведь в отличие от солдат офицеры, нас всего двое, не могут дежурить посменно. Как «работает» застава? Как корабль — по вахтам. Одни пограничники ложатся спать, когда другие встают. Вот четверо сидят рубают — те двое ужинают, а эти двое завтракают. Ни днем, ни ночью ни на секунду не остается граница без охраны. Это естественно. Такая служба. Жизнь заставы подчинена сложному расписанию. Тщательнейшим образом продуманному. Потому что при такой вот сменности надо предусмотреть и общие для всех мероприятия — занятия, учеба, комсомольские собрания… И за всем надо смотреть, все проверить, на всем поприсутствовать, во всем участвовать нам, офицерам. Так что, когда спать, — неизвестно, но приходится. И это мешает.
…Я иду вместе с нарядом. Ночь. Звезд масса, и такие они четкие, что, кажется, любую можно ткнуть пальцем. И ту вон, и эту, что разбежались по черному небу эдаким хороводом. Днем здесь жарковато, а сейчас ночью холодище, все же высокогорье, хлещет ледяной ветер, рот открываешь как рыба на песке, воздух чистый, но редкий.
Это было вчера. А сегодня тем же маршрутом иду уже днем.
Взбираюсь по склону, оглядываюсь на вершине, спускаюсь в балку и снова вверх по косогору. Дозорная тропа не садовая аллея. Я вглядываюсь в сухую пахоту следовой полосы. Для пограничника она что книга — он свободно читает ее. На ней буквы — следы, рубцы, царапины.
Эти оставлены зверем, и точно известно каким, эти птицей, скатившимся камнем, клубком перекати-поля… А эти — человеком, и тогда тревога, и тогда оживает граница. В одно мгновенье приходит в движение хорошо отлаженный, давно запрограммированный механизм. И нарушителю не уйти. Хотя их становится все меньше. Честно говоря, я не представляю себе серьезную разведку, которая бы переправляла к нам мало-мальски стоящего агента таким вот способом — через пограничную линию. Да и от нас этим путем может попытаться уйти разве что совсем уже отчаявшийся уголовник с «вышкой» в перспективе или начитавшийся о Джеймсе Бонде кандидат в диссиденты. И все же бывают случаи…
Бывают драматические, бывают комические.
Однажды наркоман убил в поселке аптекаршу, чтоб забрать разные лекарства, бежал, когда его начали преследовать, украл где-то лошадь (он конюхом работал) и пытался на ней перескочить систему. Упал. Сломал себе шею.
Другой раз задержали какого-то дурачка, решившего бежать за границу. «Зачем?» — спрашиваем. Оказалось, парень (молодой) страдает импотенцией. Так он где-то вычитал, что во Франции есть стопроцентно надежные лекарства, а у нас нет. Ну! Как вам это правится? Посоветовали обратиться к сексологу и почитать соответствующую литературу.
Чего у нас только не насмотришься…
Старшина наряда сержант Бовин, отличный пограничник, учит напарника — молодого старательного пария. Уж на что я тренированный, и то весь вспотел, даром, что ветер ледяной. Парень здоровенный, но еще не привык. А Бовин порхает прямо как балерун: неслышно, легко, без видимого напряжения. Ни один камушек не всколыхнется под его ногой, ни одна сухая веточка не скрипнет.
Порой он останавливается и указывает запыхавшемуся напарнику на какую-нибудь ямку, бороздку, объясняет, откуда она и надо ли на нее обращать внимание. Тот напряженно хмурит вспотевший лоб, запоминает. Неожиданно сержант Бовин замирает надолго. Он что-то внимательно разглядывает у самого края следовой полосы. Задумчиво смотрит на меня. Я в его педагогические действия не вмешиваюсь, просто, так сказать, присутствую. Он мнется, наконец спрашивает, то ли меня, то ли себя, то ли вообще:
— Была та щепка или не была?..
Я подхожу. Действительно в крохотной щелке между краем следовой полосы и подбежавшей сухой травой затаился еле видимый обгорелый кончик спички. Как он его углядел, непонятно, но вот углядел. И теперь вспоминает, был ли этот кончик при прошлом обходе.