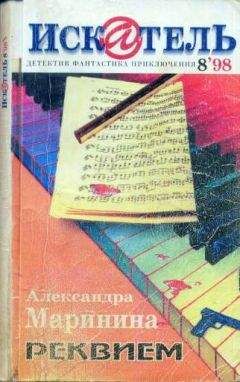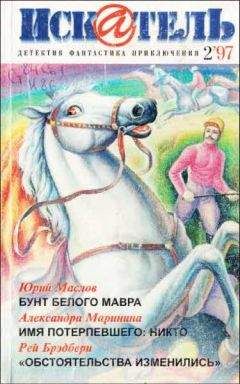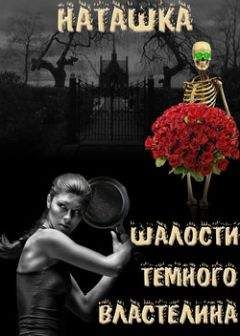— Тогда откуда тебе это известно?
— Я видела его, — просто сказала Лариса. — Он выходил из квартиры, и я на него посмотрела. Если бы твои родители хоть раз внимательно посмотрели на него, они бы тоже увидели. Я вообще не понимаю, как вы можете так спокойно жить. Пока мы добирались с вокзала, я смотрела на прохожих, ведь каждый пятый из них наколотый, если не больше. Потом ещё дядя Лёня водил нас с Юркой по Москве, я тоже внимательно смотрела на людей. Я знаю, как выглядят те, кто колет героин, и когда я иду по вашему городу, мне становится страшно. Неужели вы не понимаете, что происходит? Или вот ещё. Пока мы шли от платформы к площади, где дядя Лёня оставил машину, и потом в метро, когда гуляли, я видела много нищих. Они просили милостыню. Калеки, инвалиды, старики. Я хотела подать одному, но дядя Лёня мне запретил, а потом, в машине уже, объяснил, что из всех московских нищих только, может быть, полпроцента настоящие, а остальные организованы в бригады и превратили попрошайничество в бизнес. И никакие они не калеки, все их шрамы на лицах нарисованные, а припадки, которыми они якобы страдают, не более чем актёрская игра. Конечно, среди них есть настоящие безногие или безрукие, но всё равно они работают на организацию, а не просят милостыню на хлебушек лично для себя. В общем, с голоду они не умирают. Я сначала не поверила, но дядя Лёня сказал, что это правда, потому что он сам милиционер и знает точно. Настя, ну в какой нормальной голове это может уложиться? Ведь люди им подают, значит, они им верят, а эти профессиональные попрошайки, выходит, наживаются на чужом добросердечии, на способности людей сочувствовать и жалеть ближнего. В маленьком городе это невозможно. Там ТАК никогда не обманут.
— Может быть, — согласилась Настя, — но вовсе не потому, что в маленьком городе народ честнее и порядочнее. Просто в маленьком городе все друг друга знают по крайне мере в лицо, и человеку трудно прикидываться нищим калекой не опасаясь, что его узнают соседи или знакомые, которым прекрасно известно, какой он на самом деле. Зато в Москве, где каждый день находится миллионов тринадцать-пятнадцать человек, вероятность встретить знакомого достаточно низка. Это вопрос не морали, Ларочка, а математики.
Лариса снова умолкла, на этот раз вырисовываемые ею узоры были сложнее и затейливее.
— Мне не нужно было приезжать сюда, — сказала она удручённо.
— Да почему же? Что плохого в том, что ты приехала?
— Понимаешь, у меня была надежда. Пусть глупая, пусть детская, но надежда на то, что есть место, где всё хорошо. Просто отлично. Ведь какая у нас в городе жизнь? Работы нет, все, кто может, копаются на своих огородах, чтобы как-то прожить. В магазинах, конечно, есть всё, что нужно, даже импортное, но ведь нет денег, чтобы это купить, потому что почти всему городу не платят зарплату. Город существует вокруг завода, больше половины жителей на этом заводе работают, поэтому когда заводу нечем платить зарплату, всё население это чувствует на своём кармане. А раз нет доходов, то нет и налогов, город содержать не на что, учителя без зарплаты, врачи без зарплаты, улицы жуткие — ты бы их видела, Настя! Летом без резиновых сапог не пройдёшь, даже босоножки надеть некуда, а ведь люди хотят быть красивыми. Нищета эта проклятая всех заела, дома ветшают, люди стали угрюмые и злые. Но я всегда знала, что есть Москва, есть место, где для всех найдётся работа, прекрасный большой город, чистый и красивый. И если мне станет совсем невмоготу в моём провинциальном уголке, я рвану сюда, к тёте Наде и дяде Лёне, они приютят меня на первое время, я сумею быстро найти работу и встать на ноги. Это была надежда, единственная моя надежда, и она меня поддерживала. Она помогала мне терпеть, понимаешь? Может быть, я никогда бы и не решилась ехать в Москву, может, так до самой смерти и прокуковала бы в своей деревне, но человеку ведь нужна надежда, он не может без неё жить. А теперь я увидела Москву своими глазами и поняла, что никакой надежды у меня нет. Я просто не смогу здесь существовать.
Губы её дрогнули, одна предательская слезинка скатилась по нежной щеке. Настя ласково погладила племянницу по голове.
— Ну, не надо так драматизировать, мы же живём здесь — и ничего. И ты сможешь, если захочешь.
— Ты ничего не поняла! — с горячностью воскликнула девушка. — Я, конечно, смогу здесь жить, я смогу жить где угодно, хоть в свинарнике, если надо. Но я не хочу здесь жить, не хочу! Я не хочу жить по вашим правилам, когда в каждом человеке нужно подозревать обманщика, когда нельзя никого искренне пожалеть без риска, что тебя облапошат и будут над тобой смеяться. Я не хочу жить среди наркоманов и бандитов, среди мошенников и аферистов. И если мне скажут: «У меня умер ребёнок, помоги собрать деньги на похороны», я с себя последнее сниму и отдам, потому что большего горя, чем смерть ребёнка, нет. Я сделаю это искренне, и я буду от всего сердца жалеть несчастную мать и стараться хоть как-то облегчить её страдания. Но я буду точно знать, что над моей искренностью никто не посмеётся. А у вас же тётки стоят на вокзале с табличкой «Умер ребёнок, помогите на похороны», и дядя Лёня говорит, что это обман. Никто у них не умер, они тоже состоят в организации. И если я дам ей денег, окажусь обманутой. Ваш чудовищный город лишил людей права на нормальные чувства. Вся ваша Москва — один сплошной обман, огромный обман. Это не город и не люди в нём, это иллюзия какой-то жизни, но на самом деле вы все превратились в движущиеся механизмы, лишённые нормальных человеческих переживаний. Я не хочу так жить. Пусть в нищете и грязи, пусть без работы и без денег, но я хочу быть настоящей, а не кукольно-механической.
Лариса вдруг разрыдалась так горько и отчаянно, что Настя и сама чуть не заплакала. Она обняла девушку и стала ласково гладить её по плечам и спине, успокаивая. Конечно, её рассуждения и впечатления не лишены юношеского максимализма, увидев два-три негативных явления, она уже готова распространить их на всё население огромного мегаполиса, сделать далеко идущие выводы и превратить это всё в маленькую трагедию, но в сущности… в сущности… В чём-то она не так уж и не права. Просто Настя не ожидала, что молоденькая провинциалка сумеет увидеть Москву именно такими глазами. Как сильно отличается эта девочка от Леры Немчиновой! Обеим по восемнадцать, но такие они разные.
— Это что такое? — послышался строгий голос отчима. — Почему слёзы? Кто кого обидел?
— Так, лёгкие девичьи страдания, — лицемерно отмахнулась Настя. — Это у нас, у девушек, случается.
— А-а, — понимающе протянул Леонид Петрович, — тогда ладно. Настасья, иди к телефону, тебя твой Коротков добивается.