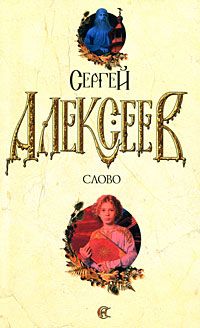– Положение… – задумался Оловянишников. – С вашей стороны как-то все несерьезно…
– Зато с вашей все серьезно! – разозлился Аронов. – Вы думаете, если деньги дали – значит, дело сделано? Это вам не прялки по деревням покупать.
Директор музея, незаслуженно оскорбленный, сник, виновато заморгал, и Анне показалось, что он вот-вот расплачется. Аронов, видимо сообразив, что погорячился, примолк. Несколько минут в отделе была тишина, слышалось лишь, как Екатерина Ивановна негромко двигала стулья в читальном зале.
– Надо спасать книги от Никиты Евсеича, – тихо и уверенно сказал Аронов. – Сердцем чую – пропадут. Теперь это наша обязанность и беда наша. Одна на всех.
Он поглядел на Оловянишникова и Анну, перевел дух.
– Я должна ехать, в любом случае, – сказала Анна. – Я уже собралась.
Аронов смерил ее взглядом, сердито отвернулся.
– Куда ехать? На деревню к дедушке?.. Бросьте говорить ерунду. Неизвестно, будет что там или нет, а вот здесь, у нас под боком, пропадает!.. Вопросов нет, надо выручать собрание. Давайте думать-как. Через милицию, через суд, через общественность – как угодно, только спасать.
Анна знала характер Аронова: если упрется – уже не своротишь. Отдел в публичной библиотеке был государством в государстве, а его хранитель – лицом неприкосновенным.
– Так вы сказали – он болен? – подал голос директор музея. – Тогда проще: признать его недееспособным… как это делается, не знаю. А книги изъять. Все законно. Когда я работал директором Дома культуры…
– Собрание Гудошникова-частная собственность, – отрубил хранитель. – Тут такая канитель… Тем более у него есть наследник.
– Тогда я не знаю, – проронил Оловянишников. – К юристам надо…
Аронов подошел вплотную к Анне, заглянул в лицо:
– Ну а вы что молчите? Сейчас все зависит от нас с вами. Вы грозились горы свернуть на благо русской словесности. Случай выпал. Где ваша хваленая женская мудрость?
– Я поеду в экспедицию, – сказала Анна. – Горы сворачивать.
– Шею сворачивать! – рассердился хранитель. – Вся надежда была на материалы Гудошникова. Где они?
– Вам лучше знать… Вы ходили к Гудошникову.
– А может, и вы сходите? Пожалуйста! Заодно полюбуетесь, в чьих руках теперь собрание. Он с ружьем возле него сидит.
– В таком случае чего же волноваться? – усмехнулась Анна. – Никакие воры не страшны…
– Он! Он сам страшен! – возмутился хранитель. – Дошло до вас, нет?
– Дошло, – согласилась Анна. – Поеду искать скиты.
Аронов устало опустился в кресло, хотел было плюнуть, но опомнился и сдержался. Екатерина Ивановна включила пылесос и начала утюжить следы на ковре, оставленные хранителем. Обманчивый рассеянный свет падал на лица и кожаные переплеты книг. Определить, который час, было невозможно. Вместе с температурой и влажностью здесь замирало и время.
Отдел редких книг и рукописей начинался в свое время с пожертвования именитого купца Окоемова. Университет еще только строился, а со всех концов России уже шли посылки с книгами и учебными пособиями от промышленников, купцов и аристократии. Окоемов на строительство десять тысяч рублей отвалил – сумму по тем временам немалую. Жил бы себе со спокойной душой да торговал пушниной и мануфактурой, но нет же, заело, что обошел его Строганов. Кроме денег, прислал тот книг чертову прорву, и все, по слухам, дорогие, старинные. Где уж там тягаться купцу с хозяином Уральского камня, но Окоемов места себе не находил. Среди сибирских купцов он считался человеком просвещенным, передовым, поскольку держал книжный магазин и несколько лавок по малым городам. Правда, лавки эти зачастую торговали канцелярскими товарами, мылом и шпалерой, поскольку возить книги в Сибирь было накладно, но это не меняло сути. Говорят, однажды на заседании строительной комиссии Окоемова шибко раздразнили и разозлили: вот, мол, Строганов с Урала книги шлет, а местный просветитель, можно сказать, патриот Сибири, денег дал и на этом заглох. И про мыло, про шпалеру в книжных лавках напомнили. Окоемов был человек заводной, горячий (по этой причине перед революцией разорился в пух и прах), шапку – об пол, рубаху на груди – до пупа и при всем честном народе бухнул: крест нательный заложу, а книги университету пожертвую, да не какие-нибудь – самые дорогие, самые редкие.
Но клятва-то клятвой, а книг взять негде. Поехал Окоемов в Москву, стал ходить по знающим людям, пытать, где можно купить библиотеку. Месяц пороги у именитых дворян обивал и нашел-таки. Подвернулся ему граф из богатейшей когда-то фамилии. Граф служил на железной дороге, снимал шесть комнат в доходном доме, и две из них были сплошь заставлены книгами. Графиня преподавала на женских курсах, жили на одно жалованье. Если б не титул, Окоемов долго бы и не кланялся, сумел бы деньгами уломать. Однако граф оказался человеком с гонором: дескать, семейные реликвии предками беречь наказано, а потому библиотека не продается, и он, светлейший, не таких купцов со двора гнал. Графиня же, как только услыхала сумму, что Окоемов предложил, зудеть начала: уступи, продай. Служанку наймем, да и мясо нынче дорогое. И сдался граф, но цену заломил – в глазах потемнело. Больно дорогие книги-то, твердит, старинные, многими поколениями собранные. Таких теперь, может, всего несколько штук есть во всей России. Отсчитал купец двадцать тысяч с лишком, сунул в графские руки и погрузил библиотеку на семь подвод. Приехал из Москвы и даже домой не заехал – сразу в университет. А через месяц уже громко зевал, сидя на почетном месте при заседании строительной комиссии…
Однако напрасно спешил Окоемов и деньги почем зря разбрасывал. В университете открылся единственный медицинский факультет, и щедрый купеческий дар оказался вроде бы не у дел. Долгое время книги так и лежали запакованными в ящики в самом дальнем углу хранилища. Перед революцией их вытащили, осмотрели, отсортировали и пустили в оборот наравне с остальными книгами библиотеки. Графское фамильное собрание растворилось и исчезло в массе, а Окоемова уже не было в живых. И только в тридцатых годах, когда в библиотеке стал формироваться отдел редких книг, вновь всплыло купеческое пожертвование, да только к тому времени напрочь забыли о настоящем дарителе – купце Окоемове. На всех привезенных им книгах стоял графский герб, пометки нескольких графских поколений, записки на полях.
Лишь в сороковом году Михаил Михайлович Аронов, ставший хранителем отдела, отыскал дарственную грамоту купца и установил истину. Это стало открытием, поскольку считалось, что столь щедрый «дар» университету исходил от обедневшего графа. Он-то, граф, и был возведен в ранг знаменитого мецената и поборника высшего образования в отсталой Сибири. Аронов же разом опроверг все толки и над шкафами, где хранились окоемовские книги, вывесил соответствующую табличку. Рукописные списки пятнадцатого века, да и более поздние, старопечатные, были в плачевном состоянии: настоялись в глухих графских шкафах, натерпелись по дороге из Москвы и належались в ящиках по сырым подвалам. Бумагу и пергамент сверлил книжный жучок, крошила плесень и прель. Четыре года Аронов лечил книги, дезинфицировал каждый лист, восстанавливал переплеты, вытравливал плесень и грязь, отлагавшуюся веками. Книга как человек: она гибнет быстрее от полного покоя и дольше живет в беспокойстве.