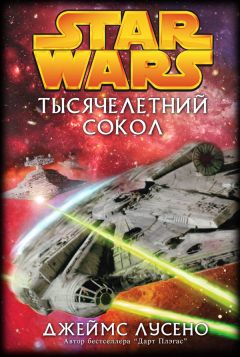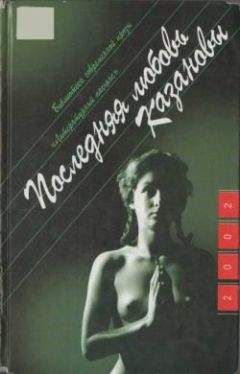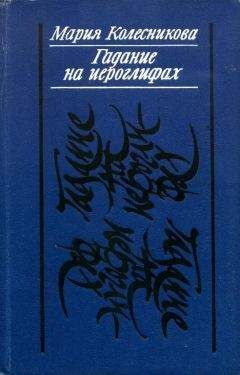Когда танец был окончен, все сорвались с мест, окружили артистку, самозабвенно выкрикивая: «Браво!» Я тоже что-то выкрикивала и неистово била в ладоши, искренне взволнованная искусством танцовщицы.
Даже очутившись в своей гостинице и лежа в постели, я продолжала думать о Саи Шоки, так непостижимо тонко выразившей в танце загадочный дух своей страны. Кто они, корейцы?..
Я никогда не была в Корее. В институте корейский язык изучала походя, так как он считался необязательным предметом. В моей диссертации, над которой продолжала урывками работать, обзор военных событий в Корее занимал всего несколько строк: в августе сорок пятого соединения 25-й армии генерала Чистякова и части Тихоокеанского флота адмирала Юмашева освободили Корею, вышли к 38-й параллели, на ту самую временную разграничительную линию, которая была определена летом сорок пятого года на Берлинской конференции великих держав.
Теперь думала: пять тысяч человек в самом конце войны — великие потери! Кто-то не дожил до мира, чьи-то мечты похоронены на корейской земле…
В номере гостиницы я думала об удивительной судьбе кореянки Саи Шоки, которой, в общем-то, повезло. Я почему-то настойчиво думала о ней, об ее завораживающих танцах. А перед мысленным взором так же настойчиво вырисовывалось тонкое, одухотворенное лицо другой артистки — японки Мидори Накао. Нет, я никогда не встречалась с ней, да и не могла встретиться; ее портреты я видела на обложках иллюстрированных журналов в Чанчуне. Тогда я еще не знала о ее страшной судьбе. Ее портреты поражали невысказанностью выражения губ и глаз, она считалась лучшей исполнительницей роли дамы с камелиями. К Мидори Накао мировая известность пришла после смерти. Но то была печальная известность.
Случилось так, что 6 августа 1945 года труппа театра «Сакуратай» со своей примадонной Мидори находилась в Хиросиме. Об этом роковом дне Мидори Накао рассказала так: «Я была на кухне, потому что в то утро должна была готовить завтрак своим коллегам. На мне был легкий красно-белый халат. Когда комнату озарил белый свет, я подумала, что это взорвался котел, а потом потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг было темно. Я была погребена в развалинах дома. Когда попыталась освободиться, оказалось, что на мне осталось только белье. Я ощупала свое тело: ран не было, только пара царапин. В чем была, я побежала к реке и прыгнула в воду. Повсюду пылала огненная буря. Несколько сотен метров меня несло течением…»
Почти все артисты труппы театра «Сакуратай» погибли — ведь они находились всего в семистах метрах от эпицентра. Когда Мидори Накао почувствовала недомогание, ее отправили в Токио к лучшим врачам — радиологу Судзуки и гематологу Джин Мияки. Недавно я прочла отчет врачей: Мидори Накао поступила в Университетскую больницу в Токио 19 августа. От ее прославленной красоты почти ничего не осталось. На другой день у нее начали выпадать волосы… В больнице делали все, чтобы спасти известную актрису. Сначала температура у нее была только 37,8°, пульс 80, но 21 августа сразу в разных участках тела появились фиолетовые пятна величиной с голубиное яйцо. На следующий день пульс достиг 158. В то утро Мидори сказала, что чувствует себя лучше, однако вскоре наступила смерть. На голове у нее осталось лишь немного волос, но когда ее подняли с постели, выпали и они…
Так человечество узнало о лучевой болезни.
В эту последнюю ночь в Токио я не заснула ни на минуту. Призраки Хиросимы снова терзали меня. Я вдруг поняла главное: годы жизни в Японии навсегда войдут в мою биографию, я отныне навеки связана с десятками тысяч уничтоженных и покалеченных японских детей, женщин и стариков, с теми, кто сгорел в атомном огне Хиросимы и Нагасаки. Я буду бороться за то, чтобы атомное безумие никогда не повторилось.
Могла ли я предполагать, что вновь встречусь с Маккелроем? Но уже при иных обстоятельствах и в другой стране.
Все это было, было!.. И даже десятилетия спустя очень часто я терзаюсь давней болью. Возможно, я осталась единственной свидетельницей, да и участницей, тех страшных событий.
С чего все началось?
Помню, стояли с полковником Аверьяновым на холме Моранбон, спрятавшись от колючего весеннего солнца под ветхой крышей старинной беседки с высоченным каменным цоколем. Сосны и кедры тянули к нам звездчатые лапы. Ближайшая сопка Тэсон, заросшая темными лесами, подковообразной ширмой охватывала северо-восточную часть Пхеньяна; то там, то сям над вершинами парили крылатые черепичные крыши высоких сторожевых вышек, уцелевших от давних времен. Тут много было павильонов в стиле буддийских храмов, беседок, двухъярусных древних ворот, крепостей.
Был сезон пионов, холм пылал в огне их веселого пожара, а острова на широкой сверкающей реке там, внизу, казались цветочными корзинами. Я зарывалась лицом в охапку огромных пурпурных цветов, вдыхая их едва уловимый горьковатый запах. Река уводила к морю. Но само море лежало отсюда километров за тридцать на западе. По берегам Тэдонгана струились каскады плакучих ив, мимо проносились катера, медленно плыли развалистые черные баржи.
— Иногда Тэдонган выходит из берегов и перехлестывает через крепостную стену, — сказал Аверьянов. — Обязательно побываем на островах. Вон та вершина называется Сомун, дальше — Чансу, ближе к нам — Чучжак. Я их тут все облазил. Люблю сопки, тайгу…
— А где Алмазные горы? — спросила я.
Он присвистнул.
— К Алмазным горам ехать и ехать: все на восток да на восток…
— Мне хотелось бы увидеть их. Давняя мечта…
— Да в первый же свободный день! Ну хоть завтра.
Я не поверила: все так просто?
— Обещаете?
Он рассмеялся:
— Конечно же! Мое слово крепче гранита, из которого сделана Корея. Капитан Вера-сан, выбирайте самые экзотические места! Мёхянсан, Алмазные горы, гробницы ванов, далыменты… Чего еще?
Иногда в свободные часы мы совершали прогулки по берегу реки от своей пхеньянской гостиницы до холма Моранбон с его беседками Ыльмильдэ и Чхесиндэ — короче говоря, из одного конца города в другой. Как выяснилось, мы оба любили ходьбу. Проходили мимо высоких крепостных ворот, которые вели к самой высокой точке города — вершине Мансудэ, а также к другим крепостным воротам на берегу речки Потхон. Реки как бы зажали город в клещи. Когда на море начинался прилив, обе реки вспучивались, и казалось, вот-вот выйдут из берегов. Ворота Тэдон и павильон Ренгван на берегу реки были как бы намеком на древность этого города, закованного горами.
Кореянки в коротких розовых и белых кофтах и длинных, то голубых, то красных, юбках, стянутых под самой грудью, приветливо нам улыбались. У них была необычайно легкая походка, казалось, что женщины плывут среди городских аллей. Мужчины носили белые рубахи и штаны чуть ниже колен. Злые мохнатые лошадки тащили арбы на высоких колесах. По улицам с бешеной скоростью проносились джипы, лихо преодолевая крутизну холмов и сопок. В корейский дом входят со двора, и я не приметила ни одной парадной двери, если не считать гостиницу, где мы жили. Гостиницу окутывали платаны и павлонии. Много было цветущей сирени.