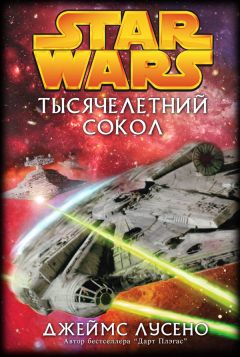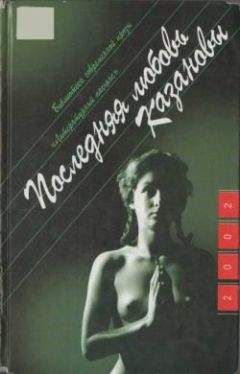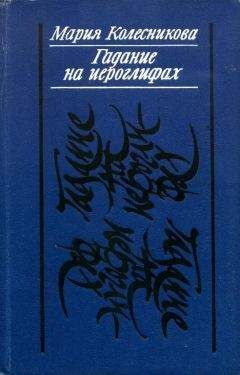Чуть прикрыв глаза и слегка улыбаясь, вспоминал, как однажды в корейских горах Мёхянсан открыл для себя великое множество водопадов, которые каскадами низвергались с высоченного пика Пиро, облазал местные пещеры и глубокие ущелья, заросшие лесом.
— Место настолько запомнилось, что даже сейчас тянет туда, — говорил он с веселой грустью. — Там есть речка Хянсанчхон, прозрачная, как слеза. Мне нравилось отдыхать на нижней ступеньке тринадцатиярусной восьмиугольной пагоды возле храма Похен. Гранитная пагода с колокольчиками по углам. Есть на земле места, к которым привязываешься навсегда.
Я представила себе эту бледно-сиреневую пагоду с колокольчиками и шпилем на фоне синих-синих гор, прогнутые черепичные крыши молчаливых старинных храмов, затерянных среди скал, и, в самом деле, почувствовала неизъяснимую тягу в те незнакомые места.
Все мы почему-то убеждены в своей причастности к искусству. В институте я изучала японское и китайское искусство. Искусство считалось частью культуры того или иного народа. И мое восхищение цветными гравюрами Китагава Утамаро следовало признать строго профессиональным, и точно таким же было восхищение китайскими свитками на шелку Чжоу Фана, Янь Либэня, Ли Чжаодао. Искусство для ограниченного круга специалистов. Прекрасно оно или безобразно — не имеет значения. Важно то, что в такое-то и такое японское или китайское время пейзаж вдруг стал необходимым эмоциональным фоном, с которым художник связывал мир человеческих чувств. Знакомство с европейским искусством было у меня весьма поверхностным. О великих мастерах знала понаслышке.
И неожиданно в мою скромную жизнь ворвался человек, глубоко знающий творчество мастеров эпохи Возрождения. Он все это знал потому, что родители увлекались искусством и ему привили в свое время интерес к нему. Зачем оно, искусство, почему его бесконечный конвейер не останавливается ни на секунду ни в дни мира, ни в дни войны? Я знала, что в развитии того или иного общества главная роль принадлежит социально-экономическим причинам; они-то, социально-экономические факторы, и движут историей.
— Экая вы начетчица! — сказал он со смехом, выслушав мои суждения о роли искусства в жизни человечества. — Вот говорят: яркая, самобытная культура, выдающиеся произведения человеческого гения и тому подобное. А зачем? Искусство — душа народа! Вот зачем: нет искусства — нет души. Умерло искусство — умерла душа. Если хотите понять душу того или иного народа, обращайте взгляд прежде всего сюда — и вам откроется. Подлинное искусство всегда национально. Мы слишком самонадеянны, когда хотим выяснить мотивы всех поступков и деяний народов через социально-экономические факторы. Мой товарищеский совет: хотите понять, к примеру, душу китайского или корейского народа — изучайте не памятники, не картины, а сам процесс творчества, и тогда вам многое станет понятным.
Его совет был слишком неожиданным, чтобы сразу понять, в чем тут суть. Но что-то было. Сам процесс творчества? Как его исследовать, докапываясь до души народа? Как смогу воспроизвести в себе, словно собственную сущность, потребность в процессе художественной деятельности какого-нибудь Цуй Бо, жившего в одиннадцатом веке? Не попахивает ли от этого все-таки мистикой?
Во всяком случае, это было интересно. Идти бы Сергею Владимировичу по мирной линии искусствоведа, и достиг бы больших успехов… Зачем ему танки, стрельба, оперативные задачи?
— Ну, ну, не преувеличивайте, — сказал он с добродушной иронией. — Искусствоведа из меня все равно не получилось бы. А стрельба пока нужна. И оперативные задачи — тоже. Впрочем, будем считать, что пагода с колокольчиками за мной. Когда занят будничной штабной работой, всегда хочется пирога с вязигой.
Но его ирония не обманула меня: судя по всему, обычная мирная обстановка тяготила полковника. На Ленинградском фронте, а позже — в Маньчжурии, в Корее, он призван был оперативно мыслить, изыскивать для своей танковой бригады самые верные и точные пути для победы малой кровью. Он жил, горел, и его губы тряслись от возбуждения, когда рассказывал, как наши танки напрямик ломились через маньчжурскую тайгу.
Этот человек интересовал меня все больше и больше. В его мышлении отсутствовала святая прямолинейность. В нем угадывалось исключительное хладнокровие. Он умел быстро обобщать, казалось бы, далекие друг от друга явления и делать однозначные выводы, которые всякий раз поражали меня своей кажущейся парадоксальностью.
И если мне представлялось, что все очаги войны погашены раз и навсегда, он придерживался несколько иного мнения.
— Японский очаг здесь, на Дальнем Востоке, слава богу, погасили, — говорил он. — А сколько новых очагов может появиться в этом районе завтра?! Янки упорно продолжают считать 38-ю параллель в Корее не разграничительной линией, а американской границей в Азии. Они, видите ли, за объединение Кореи, за «объединение путем победы над коммунизмом». Вот ведь как все просто. Их стратеги считают, что с военной точки зрения Корея расположена на весьма выгодном месте, откуда можно наносить удар по любому району Восточной Азии. Известный вам генерал Макартур вполне серьезно претендует на престол «императора Дальнего Востока». Как бы мы ни рассуждали, а факт остается фактом: американцы придвинулись к нам вплотную… В свое время США допустили японцев в Китай, стремясь, по словам генерала Стилуэлла, создать руками японцев «прочный вал против России». Они и сейчас не отказались от этой идеи. Руками японцев не получилось, будут искать другие руки…
Где они, эти руки? Я их прямо-таки не видела.
Разумеется, я кое-что знала.
В своей попытке разобраться в событиях тех бурных месяцев я как-то упускала из виду Корею. Ведь сама я находилась, так сказать, в горниле основных событий — в Маньчжурии, в Мукдене, Чанчуне, Харбине — и совсем не представляла, что происходило в те месяцы в Северной и Южной Корее; а судя по всему, американцы очень большое значение придавали корейским событиям и вообще Корейскому полуострову. Воспользовавшись плодами наших побед, они месяц спустя после капитуляции Японии спокойненько высадились в Южной Корее и сразу же принялись бесчинствовать: расстреляли демонстрации рабочих, прибегая к помощи японских войск; временную разграничительную линию по 38-й параллели, установленную лишь для того, чтобы быстрее принять капитуляцию японских войск, они превратили в постоянную, сильно укрепленную границу. На протесты нашего правительства американцы нагло заявляли, что хотят превратить всю Корею в подопечную США территорию. И никакого там единого демократического корейского правительства! Макартур заявил населению Южной Кореи: «Вся власть на территории к югу от 38-й параллели будет осуществляться под моим руководством!» И пригрозил смертной казнью членам всяких там народных комитетов. Он оставил в неприкосновенности и в силе все введенные японскими колонизаторами законы, что вызвало взрыв возмущения во всех общественных слоях. Японский генерал-губернатор Абэ Нобуюки на глазах у американских оккупационных властей спокойненько расправлялся с корейскими трудящимися. Во главе военной администрации Макартур поставил генерала Арнольда, который в открытую заявил, что суверенитет в Южной Корее принадлежит не корейскому народу, а ему, Арнольду, Американской военной администрации. Во всех действиях этой американской администрации проглядывала лишь одна забота: превратить Южную Корею в военный плацдарм США на Азиатском материке. Американцы беспощадно расправлялись с корейскими патриотами. В 1946 году в октябре было убито семь тысяч человек, двадцать пять тысяч арестовано и брошено в тюрьмы. В марте 1947 года снова многие были расстреляны и брошены в тюрьмы. На острове Чеджудо американские каратели убили две тысячи патриотов, шесть тысяч бросили в тюрьмы. Кончилось тем, что американцы создали в мае 1948 года сепаратное южнокорейское государство, во главе которого поставили Ли Сын Мана, человека с очень пестрой политической биографией, по этому случаю доставленного в Сеул из Вашингтона. Таким образом, США сознательно пошли на раскол Кореи. Там, в Южной Корее, продолжала виться американская веревочка. США заключили с Южной Кореей военное соглашение: американское правительство взяло на себя обязательство вооружить южнокорейскую армию.