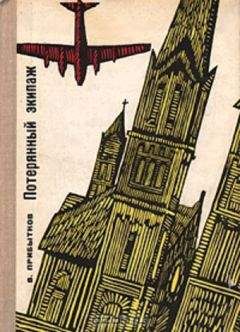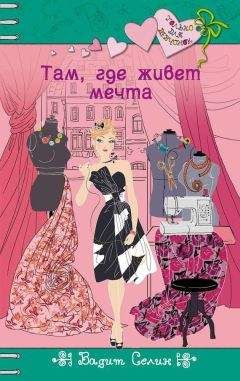— Господи! Не надо, Ловас! Мало ли что?
— Заткнись! — сказал Ловас. — Дура! Я же никому не скажу! Ты что, хочешь, чтобы добро пропадало?
— Господи! А вдруг что-нибудь?
— Молчи, ничего и не будет! — сказал Ловас. — Ведь десять мешков!
— Господи! А если узнают?.. Так просто никто не бросит!..
— Раз бросили — значит, не нужно им, — рассудительно заметил Ловас. — А узнать — никто не узнает. Никому не скажем. Только скажи — по судам затаскают, известно… Нет уж! А муку нынче же привезем.
— Господи! — сказала жена. — Мешков десять, говоришь?
— Ага. Не меньше, — сказал Ловас. — Только ты ни гугу!
— Господи! — тихонько воскликнула жена. — Разве я дура?..
И, оглянувшись, они ушли в дом…
На исходе того же дня Петро Кандыба, работавший с утра по сортировке одежды ликвидированных жителей Наддетьхаза, вернулся в казарму и, собираясь отужинать, заметил двух эсэсовцев, появившихся возле дневального.
Появление эсэсовцев никогда не предвещало ничего хорошего. Кандыба сразу подумал, что кто-то нашкодил.
«Интересно — кто?» — подумал Кандыба.
Эсэсовцы, сопровождаемые встревоженным дневальным, двигались по узкому проходу между двухъярусными нарами. Казарма притихла. Эсэсовцы остановились возле Кандыбы. Дневальный со страхом смотрел на Кандыбу.
— Хе-хе… — неуверенно сказал Кандыба. — Хе-хе…
— Вот, — сказал дневальный.
— Хе-хе… — сказал Кандыба, дергая губами. — Хе…
— Встать, — приказал эсэсовец с погонами штурмманна.
— Мене? — спросил Кандыба, не в силах двинуться.
Штурмманн протянул руку, схватил Кандыбу за чуб и рванул на себя.
— Мене? — взвизгнул Кандыба.
Второй эсэсовец привычно провел руками по телу Кандыбы, проверил его карманы, вытащил из них нож, грязный носовой платок, полупустую пачку сигарет, пачку стянутых резинкой кредиток.
— Я ничего не брал! — торопливо сказал Кандыба. — Не надо мене!..
Щелкнули наручники.
— Марш! — приказал штурмманн.
Кандыба знал, что противиться эсэсовцам не следует. Покорно согнув голову, он засеменил по проходу, исподлобья поглядывая по сторонам и пытаясь улыбаться.
— Это не мене! — бессмысленно говорил он. — Не! Не мене!
— Молчать! — сказал штурмманн, и Кандыба с готовностью умолк.
Дверь казармы захлопнулась. Кандыбу впихнули в малолитражный автомобиль. Штурмманн сел рядом с шофером. Второй эсэсовец — возле Кандыбы. Машина пошла к центру города.
Кандыба шевелил губами, жалко улыбался.
— Не мене! — беззвучно, упорно повторял он привязавшуюся фразу. — Не мене!
Он не знал за собой никакой вины. Ничего не крал в эти дни, все приказы выполнял…
— Не мене!..
Кандыбе и на ум не приходило, что арест может быть связан с допросом советского летчика. Уж с летчиком-то все было в порядке! Тут Кандыба считал себя совершенно чистым. За летчика он не беспокоился… Вот разве пронюхали, что он две недели назад золотую челюсть припрятал? Когда евреев стреляли… А больше не за что… Но он вернет челюсть! Хрен с ней, вернет!
— Не мене!..
Кандыбу вытолкали из машины возле здания гестапо. Уж это-то здание он хорошо знал!
«Челюсть!» — подумал Кандыба.
Его провели коридором, ввели в подвальную камеру с грубым, покрытым бурыми пятнами топчаном, со свисающими с потолка веревками.
Кандыбу поставили лицом к стене.
Кто-то вошел.
— Повернись!
Кандыба торопливо повернулся.
В дверях стоял унтершарфюрер с большими залысинами. Засунув за ремень большие пальцы, унтершарфюрер смотрел на Кандыбу.
— Раздеть! — приказал унтершарфюрер солдатам.
С Кандыбы сорвали сапоги, платье, белье. Он неуверенно переступил босыми пятками по холодному полу.
— Если насчет челюсти… — забормотал Кандыба.
— Молчать! — сказал унтершарфюрер. — Скажешь все добровольно — останешься жив. Не скажешь — убью.
— Все скажу! — поспешил заверить эсэсовца Кандыба. — Да боже ж мой!
— Молчать! — сказал унтершарфюрер. — Тебя вызывали в разведотдел? К советскому летчику сажали?
Кандыба вытаращил глаза.
— Говори!
Кандыба торопливо отвечал на вопросы. Все рассказывал. Все. Но, видимо, он рассказывал не то, что хотел услышать унтершарфюрер, потому что тот дал знак солдатам, и они приблизились к предателю…
Вой Кандыбы проник сквозь толстую дверь, просочился сквозь стены.
— Изоляция паршивая, — сказал дежурный эсэсовец, услышав этот вой. — Разве это изоляция?
— Да уж… — согласился другой, позевывая. — А чего ты хочешь? Обычный подвал…
Через час Кандыба сказал, что он предупреждал начальника разведки о подозрительном поведении пленного русского летчика, но получил приказ замолчать и никому не сообщил об этом приказе, боясь расправы.
После этого Кандыбу бросили в камеру, и несколько часов он провел взаперти, на холоде, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить изуродованное тело.
Изредка он взвизгивал и подвывал. Но визг был слабым…
В семь часов вечера за Кандыбой пришли. Его заставили надеть какое-то подобие халата. Связали ему руки. Вывели во двор. Тут, во дворе, Кандыба увидел кучку немецких офицеров в черных мундирах. Одного Кандыба знал. Это был сам штурмбаннфюрер Раббе. Потом Кандыба заметил виселицу. И сообразил, что его ведут к виселице. Ноги у Кандыбы подвернулись. Он упал бы, но солдаты ловко подхватили Кандыбу под руки, быстро поволокли через двор.
— У-у-у-у… — тихонько выл Кандыба.
Солдаты остановились.
— Что такое? — услышал Кандыба голос одного из офицеров.
— Воняет он, господин штурмбаннфюрер! — злобно откликнулся солдат.
— Кончайте!
— Слушаюсь!..
Кандыбу приволокли к виселице.
— Не мене! — тонко завыл Кандыба, почувствовав, как охватывает шею шершавая петля. — Я скажу!
— Хорек обгаженный! — сквозь зубы процедил солдат.
Кандыба на миг умолк, судорожно соображая, кого еще он может предать, что еще сказать, чтобы избежать гибели.
В этот миг солдаты отступили. Один вышиб из-под ног Кандыбы табурет, второй обхватил туловище предателя, повис на нем и выпустил дергающееся тело лишь после того, как услышал хруст позвонков.
Офицеры приблизились к трупу. Раббе привстал на цыпочки, завернул веко повешенного, опустился, отряхнул перчатку, кивнул.
Итак, один из виновных в гибели группы Гинцлера наказан. По крайней мере есть о чем сообщить в Будапешт. А майор Вольф пожалеет, что не хотел слушать советов и пытался опорочить службу безопасности. Конечно, показания такой личности, как Кандыба, доверия руководству не внушат. Но только в том случае, если останутся единственными…