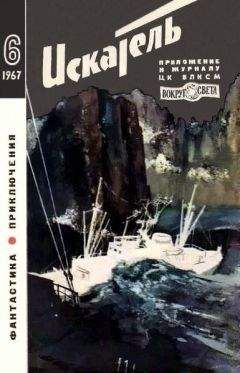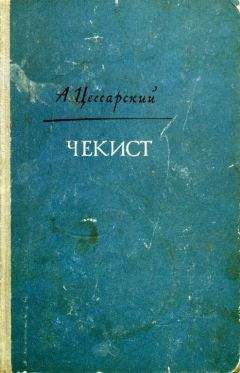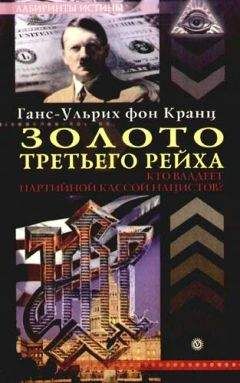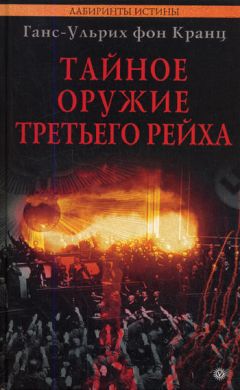Вскоре начали восходить луны — у Омикрона Сети-18 их было три — и непрерывно меняющийся узор лунных бликов на листьях, ветви и цветах действовал усыпляюще. В своем новом обличье дерево было прекрасно. Птицы-хохотушки угомонились, поющих насекомых поблизости не было. Стояла полная тишина.
Вначале он увидел только отдельные штрихи: сияющую белизну ног, нежное мерцание рук; тьму, где ее тело скрывала туника; расплывчатое серебристое пятно лица. Наконец все это соединилось, и она возникла там во всей своей призрачной красоте. Ома вышла из мрака и села по другую сторону костра. Сейчас лицо ее виделось гораздо отчетливей, чем днем, — очаровательное сказочной миниатюрностью черт и яркой синевой глаз.
Она долго хранила молчание, молчал и он, и они тихо сидели по обе стороны костра, а вокруг была ночь, серебряная, безмолвная и черная. И наконец, он произнес:
— Это ты была там… на ветви, правда?.. И в шатре из листьев тоже была ты, и это ты стояла, прислонившись к стволу.
— В некотором смысле, — сказала она, — в некотором смысле это была я.
— И ты живешь на этом дереве…
— В некотором, смысле, — повторила она. — В некотором, смысле я живу на нем. — И потом: — Почему земляне убивают деревья?
Он на мгновение призадумался.
— По очень многим причинам, — сказал он. — Если ты Блюскиз, ты убиваешь их потому, что это дает тебе возможность проявить одну из тех немногих унаследованных тобою черт, которую не смог отнять у твоей расы белый человек, — презрение к высоте. Но сколько бы ты ни убивал их, твоя душа, душа американского индейца, корчится от ненависти к самому себе, ибо по сути дела ты причиняешь другим землям то же самое, что белый человек причинил твоей собственной. Если же ты Сухр, ты убиваешь их потому, что, умерщвляя деревья, ты испытываешь такое же удовлетворение, какое художнику приносит живопись, писателю — творчество, композитору — создание музыкального произведения.
— А если ты — это ты?
Он почувствовал, что не сможет солгать.
— Тогда ты убиваешь их потому, что тебе не дано стать взрослым, — произнес он. — Ты убиваешь их потому, что тебе нравится поклонение обывателей, тебе нравится, когда они хлопают тебя по спине и угощают выпивкой. Потому, что тебе приятно, когда на улице хорошенькие девушки оборачиваются и глядят тебе вслед. Ты убиваешь их потому, что хитроумные компании вроде «Убийц деревьев, инкорпорейтед» отлично понимают твою незрелость и незрелость сотен других, таких, как ты, и они соблазняют тебя красивой зеленой униформой, соблазняют тебя тем, что посылают в школу древорубов и воспитывают там в надуманных традициях; тем, что сохраняют примитивные способы уничтожения деревьев — ведь благодаря этим примитивным способам ты кажешься почти полубогом тому, кто наблюдает снизу, и почти мужчиной самому себе.
— Так сорвите же нас, Земляне, — произнесла она, — маленькие Земляне, которые губят виноградники; ведь наши виноградники в цвету.
— Ты похитила это из моего сознания, — сказал он. — Но ты обмолвилась. Там говорится «лисы», а не «земляне».
— Лисы не переживают крушения надежд. Я сказала так, как нужно.
— …Да, — согласился он. — Ты сказала так, как нужно.
— А теперь мне пора идти. Я должна подготовиться к завтрашнему дню. Я буду на каждой ветви, которую ты срезаешь. Каждый упавший лист будет казаться тебе моей рукой, каждый умирающий цветок — моим лицом.
— Мне очень жаль, — сказал он.
— Я знаю, — сказала она. — Но та часть твоей души, которая испытывает жалость, живет только ночью. Она всегда умирает на рассвете.
— Я устал — произнес он. — Я ужасно устал. Мне нужно выспаться.
— Так спи, маленький Землянин. У твоего маленького игрушечного костра, в твоей маленькой игрушечной палатке… Ложись, маленький Землянин, и свернись калачиком в твоей теплой уютной постели…
Его разбудило пение птиц-хохотушек. Выбравшись из палатки, он увидел, как они порхают под древесными сводами, проносятся по зеленым коридорам, стремительно вырываются наружу сквозь ажурные отверстия в листве, розовые в свете зари.
Стоя на ветви, он выпрямился во весь рост, потянулся и полной грудью вдохнул прохладный утренний воздух. Потом включил передатчик.
— Что у вас на завтрак, мистер Райт?
Райт отозвался немедленно.
— Оладьи, мистер Стронг. Мы сейчас уничтожаем их как голодные волки. Но не волнуйтесь: жена мэра уже взбивает изрядную порцию специально для вас… Хорошо выспались?
— Неплохо.
— Рад это слышать. Сегодня вам придется попотеть. Ведь сегодня вам достанутся ветви побольше. Уже заарканили какую-нибудь симпатичную дриаду?
— Нет. Забудьте о дриадах, мистер Райт; давайте-ка лучше сюда оладьи.
— Слушаюсь, мистер Стронг.
После завтрака он свернул лагерь и убрал в лифт палатку, одеяла и обогревательный прибор. Покончив с этим, Стронг поднялся в лифте к тому месту, где прервал работу накануне.
Он отмерил шагами девяносто футов и, опустившись на колени, закрепил щипцы. Потом попросил Райта натянуть шнур. Далеко внизу виднелись домики и задние дворы. На краю площади выстроилась длинная очередь транспортировщиков древесины, готовых везти на Лесопильный завод новый дневной урожай.
Когда шнур натянулся, он попросил Райта приостановить лебедку, пошел назад к стволу и, сев в седло, приготовился срезать ветвь. Поднял резак, прицелился. Прикоснулся к курку.
«Я буду на каждой ветви…»
В сознании его вдруг вспыхнули видения прошлой ночи и на какой-то миг парализовали его волю. Он взглянул на конец ветви, где, поблескивая на солнце, трепетали под ветром убранные листьями тонкие боковые ветки. На этот раз он даже удивился, не увидев там дриады.
Прошла не одна минута, пока он, наконец, заставил себя перевести взгляд туда, куда ему сейчас положено было смотреть. И заново нацелил резак. «Возлюбленных все убивают, — подумал он и нажал курок. — Так повелось в веках».
— Принимайте ее, мистер Райт.
Когда ветвь стала спускаться, он отодвинулся в сторону и, пока она опускалась, срезал самые длинные боковые ветки. Большая часть этих веток все равно застревала в нижних слоях листвы, но, по мере того как сам он будет спускаться, все они в конце концов упадут на землю. Последние веточки были слишком малы и не вызывали беспокойства, и он отвернулся, чтобы осмотреть следующую ветвь. В ту же секунду он почувствовал на щеке нежное прикосновение листа.