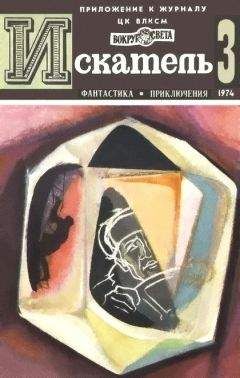Таким образом, я был совершенно лишен средств общения с другими людьми. Из-за худобы, необычного цвета кожи и странных глаз меня принимали за ненормального.
Видя, что я не делаю никаких успехов, родители решили забрать меня из коллежа, смирившись с тем, что я останусь неучем. В тот день, когда у отца исчезла последняя надежда, он обратился ко мне непривычно ласково:
— Бедный мой мальчик, ты видишь, я до конца исполнил свой долг. Никогда не вини меня в своей судьбе.
Я был очень растроган, даже заплакал. В эту минуту я еще острее, чем когда-либо, почувствовал свое одиночество среди людей. Осмелев, я нежно обнял отца и пробормотал:
— Это неправда, я ведь совсем не такой, как ты думаешь.
Но он все равно не разобрал ни одного слова…
В самом деле, я чувствовал себя намного выше своих сверстников. Ум мой развивался необыкновенно быстро, я много читал и думал, ведь у меня было гораздо больше объектов для размышлений, чем у других людей. Только мать любящим сердцем понимала, что я не глупее других мальчишек моего возраста.
Когда я оставил учение, мне поручили пасти коров и овец. Я легко справлялся о этой работой, мне не нужны были ни лошадь, ни собака — ведь я бегал намного быстрее.
Так от четырнадцати до семнадцати лет я жил уединенной жизнью пастуха. Без конца сравнивая два известных мне мира, я пытался представить себе систему развития жизни на Земле. Правда, мысли мои были бессвязными и отрывочными, но они основывались на уникальных наблюдениях и могли бы иметь определенную научную ценность. Эти раздумья были единственным утешением моей печальной жизни.
К семнадцати годам жизнь моя сделалась совершенно невыносимой. Я устал мечтать в одиночестве, изнемогал от тоски, неподвижно просиживая целыми часами, безучастный ко всему окружающему. Зачем мне знать, то, чего не ведают другие, если мои знания умрут вместе со мной? Моя тайна меня больше не опьяняла, не наполняла мою душу энтузиазмом, ведь я не мог ни с кем ею поделиться… Я еще больше отдалялся от людей.
Сколько раз я мечтал о том, как напишу все то, что знаю, пусть даже это будет стоить неимоверных усилий. Но кто примет всерьез мои жалкие измышления и не сочтет меня безумцем? Да и стоит ли подвергать себя таким мукам: ведь для меня перенести на бумагу свои мысли — все равно что высечь их на мраморной плите…
Я еще больше исхудал и стал походить на призрак. Жители деревни дразнили меня «Святой дух», издали завидев мою долговязую фигуру, отбрасывавшую гигантскую тень.
Но вот постепенно в моей голове созрел план. Я решил покинуть этот суровый край и отправиться в большой город на поиски ученых и философов. Разве сам я не мог послужить им интересным объектом для исследований? Разве моя внешность, мое зрение, удивительная быстрота движений сами по себе не заслуживали пристального внимания ученых? Чем больше я об этом думал, тем больше возрастала моя решимость. Наконец, я сообщил родителям о своих намерениях. Они не слишком хорошо поняли, о чем идет речь, но уступили моим настойчивым просьбам. Мне было разрешено поехать в Амстердам. И вот однажды утром я отправился в путь.
От Звартендама до Амстердама около ста километров. Я без труда преодолел это расстояние за два часа. Путешествие прошло без приключений. Не считая того, что в городках и поселках, через которые я пробегал, собирались толпы зевак, застывавших в изумлении от скорости моего бега. Чтобы не заблудиться, я несколько раз спрашивал дорогу у неторопливо бредущих стариков и благодаря превосходно развитому чувству ориентации около девяти вечера оказался в Амстердаме.
Я медленно шел вдоль прекрасных каналов и не привлекал к себе внимания, как опасался, смешавшись с толпой деловитых прохожих и лишь изредка вызывал усмешки каких-то юных гуляк. Но все же остановиться я еще не решался и уже обошел почти весь город, пока, наконец, не осмелился зайти в кабачок на набережной Геерен Грахт. Здесь было совсем тихо. Задумчивый канал струился между рядами деревьев, и я заметил, что среди модигенов (так еще в детстве я окрестил эти таинственные существа), снующих по берегам, появились новые для меня разновидности.
Слегка поколебавшись, я переступил порог кабачка и медленно, как только мог, обратился к хозяину с просьбой указать на какую-нибудь больницу… В его взгляде я прочел подозрение и любопытство. Он вынул изо рта свою большую трубку, снова затянулся и затем уже произнес:
— Бьюсь об заклад, вы из колоний?
Поскольку спорить с ним не имело смысла, я утвердительно кивнул. В восторге от собственной проницательности он задал новый вопрос:
— Наверное, вы приехали из той части Борнео, куда нам невозможно попасть?
— Именно так.
Я ответил слишком быстро. Он вытаращил глаза.
— Именно так, — повторил я медленнее.
Хозяин с удовлетворением улыбнулся.
— Вам нелегко говорить по-голландски, не правда ли? Значит, вам нужна больница. Вы что, больны?
— Да.
Вокруг собирались посетители, уже прослышав, что я — антропофаг с Борнео. Однако смотрели на меня скорее с любопытством, чем с враждебностью. С улицы в кабачок сбегались зеваки. Мне стало не по себе, но я старался сохранять спокойствие и сказал кашляя:
— Я очень болен.
— Их обезьянам тоже вреден наш климат, — добродушно произнес какой-то толстяк.
— Какая у него странная кожа… — добавил другой.
— Интересно, как у него устроены глаза? — поинтересовался третий, указывая на меня.
Я был окружен плотным кольцом, на меня устремились сотни глаз, а в кабачок заходили все новые и новые прохожие.
— Какой он высокий!
Действительно, я был на голову выше остальных.
— А до чего тощий!
— Непохоже, чтобы эти антропофаги прилично питались.
В их голосах не чувствовалось неприязни, а несколько сердобольных пытались меня защитить:
— Не давите на него так, он ведь нездоров.
— Ну, приятель, мужайся, — сказал толстяк, заметив мое беспокойство, — я сам отведу тебя в больницу.
Он взял меня за руку и с криком: «Дорогу больному!» — начал пробиваться сквозь толпу. Нас пропустили, но все тут же ринулись вслед за нами. Мы шли по набережной канала в сопровождении густой толпы, и люди кричали: «Это каннибал с Борнео!»
Наконец, мы добрались до какой-то больницы. Был приемный час. Нас провели к студенту-практиканту, юноше в синих очках, который встретил нас весьма нелюбезно. Мой спутник сообщил ему:
— Это дикарь из колоний.
— Неужели дикарь? — вскричал тот. Он снял очки, чтобы лучше меня рассмотреть, на несколько секунд застыл в изумлении, затем резко спросил: