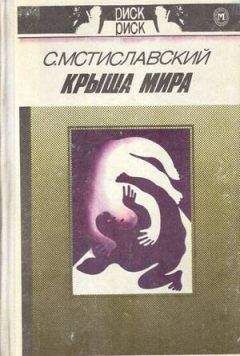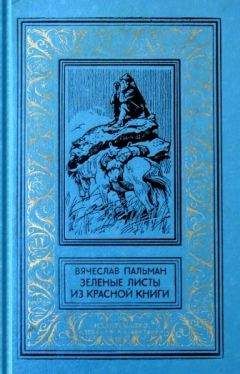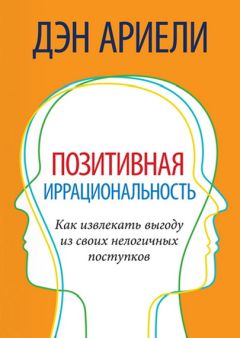Весь сжавшись от нахлынувшей злобы — ты так, Хранитель Тропы! — я стиснул обеими руками ногу Джилги выше щиколотки и страшным напряжением вырвал ее из стремени. На диком скаку прямо перед нами вздыбился из земли огромный зубристый камень. Мгновенно подобравшись весь, Ариман прыгнул через гребень; конь крэн-и-лонга, споткнувшись на раскате, дико метнулся в сторону. Но я не выпустил ногу: тело Джилги, прыжком Аримана сорванное с седла, взмахнулось в воздух тяжелым разлетом. Сверкнул клинок. Я разжал руки, перехватил повод… Джилга ударился лицом о зубец. Что-то хрустнуло… за мной уже… Я успел поддержать поводьями Аримана: мы перепрыгнули.
Лишь саженях в десяти, за камнем, удалось осадить закусившего удила коня. Вскачь я повернул обратно. За обломком на осыпи синело лезвие: я подобрал его с седла на ходу и подъехал, огибая скалу, к распластанному на ней телу Джилги. Он лежал ничком. Чалма сбилась от удара на затылок. Лица не было видно: но темная медленная кровь растекалась от головы, заполняя вымоины на поверхности камня. Конь Джилги, заступив ногою за повод, хрипя и дрожа, жался у скалистого откоса, дробно переступая сильными косматыми ногами. Шагах в сорока от него, запав между гранитными обломками, валялся серый, измазанный кровью козел. Я поднял его к луке. Вовремя: ущелье гудело уже под ударами копыт — из-за поворота вынесся Гассан, за ним, кучкой, два-три десятка горцев.
И сразу из десятка грудей вырвалось — одним звуком:
— Джилга!
Они увидели труп на камне, Хранители Тропы! Потому что среди всадников я сразу узнал их синие чалмы… Да, когти грифа на правом плече!
Горцы спешились. Тело подняли. Джилга был убит наповал, с удара. От середины лба, через правую раздробленную глазницу, шел широкий, камнем насеченный, кровавый рубец. Один из родичей перекрутил своею чалмою разбитую голову. Труп посадили в седло. Двое крэн-и-лонгов, верхами, по обе стороны, держа поводья лошади Джилги, поддерживали оползавшее, никнувшее к гриве тело.
Остальные осматривали место. Я рассказал о прыжке — промолчав о нашем поединке.
— Конечно, бросить козла должен был Джилга. Бросил бы — удержался. Против такого коня, как твой, разве удержишь козла на полном скаку? Не захотел уступить, за то — принял смерть. Кто не уступит вовремя — выбирает смерть.
— И место это! Сюда мы никогда не заводим скачки. Взгляни правее, таксыр. Если с того обрыва сорваться — и тела не найдешь. Был у нас случай, тому лет шесть: трое сорвалось в этом месте, вот так, как сегодня, — на байге — джигитов, всем Кала-и-Хумбом искали потом спуска в расселину эту — не нашли. С тех пор — обычай такой: от тех вот камней поворачивать назад. Нарушил обычай Джилга. На свою же голову!
— Всему судьба! Ну что ж, таксыр, гайда! Веди скачку. Заждались, должно быть, бек и гости.
Я стоял в нерешительности.
— Гайда, таксыр! На то воля Аллаха: разве есть на ком вина, если убьется противник на скачке? Не он — так ты. Солнце судит! Держи козла крепче, таксыр: я беру!
И в самом деле: горцы загорячили коней, окружая меня плотным кольцом. Только крэн-и-лонги медлительно и мрачно отъехали в сторону, к трупу. В руке одного из них я заметил пустые ножны — того ножа, что засунут у меня сейчас в правый сапог.
Гассан, перегнувшись через круп Аримана, схватил козла и потянул к себе.
— Повод, таксыр! Скорее, прочь отсюда!
Опять защелкали камни под копытами копей. Я легко ушел от погони. На повороте — опять обернулся, как тогда: первым за мной скакал, на сером своем жеребенке, Гассан, дальше — кучею — остальные. А за ними, медленно, качаясь на седле, между двух крэн-и-лонгов словно плыл по ущелью — замотанный синими чалмами труп.
В ущелье уже стерегли: но козел плотно поджат под колено — трудно на быстром скаку ухватить за обрывки ног. Я счастливо вырвался на площадку — и врезался в поджидавшую меня здесь толпу.
Десятки рук потянулись к козлу. Стиснув зубы (Джилга все еще стоял у меня перед глазами), я отдался на волю Аримана: зацепеневшие, напруженные мышцы — я чувствовал — стальными зажимами держат козлиные ноги. Не помню, долго ли шла борьба — и шла ли… Лавина конных несла меня, крутясь, подминая не успевших дать дорогу, к шатру. Мелькнули над чалмами шелковые полотнища палатки.
Вправо, влево — уже осаживали расскакавшихся коней. Я очнулся: отбил стременем последнюю протянувшуюся еще к козлу руку, взметнул тушу над головой и бросил ее перед ставкой. Бек и гости поднялись с мест. Джалэддин, радостно смеясь, волочил по ковру тяжелый вороненый конский убор. Я огладил Аримана и соскочил наземь: сегодня «рвать козла» я больше не буду…
* * *
Спокойно выслушали бек и гости рассказ о том, как на скаку, в борьбе за козла, был выброшен из седла и разбился о камень Джилга.
— Упрям был Джилга: не захотел уступить…
— И-э! Легко ли уступать, да еще не здешнему, а фаранги…
— Да еще — ты не обижайся, таксыр, — такому молодому. Смотри, Джалэддин: ведь он — как камыш тонкий, и руки как у девушки…
— Зато конь! Цены нет коню! Только в Гиссаре и найдешь еще таких коней.
— А конь на байге — все. Если твой конь на схватке сдаст — бросай козла, не мешкай — иначе ни за что не удержаться в седле. Мальчик знает! Эх, не ко времени заупрямился Джилга!
— На все воля Аллаха! Он судит.
И опять захрипели, застонали трубы. К беку подвели нового козла. Тот, первый, слишком истрепан — в четыре скачки.
— Теперь за тобой очередь, Гассан-бай, — кричу Гассанке, нагибающемуся над козлом. — Только смотри: не дальше поворота!
И принимаю из рук соседа, придерживая локоть свободной рукой, по бухарскому этикету, голубую афганскую чашку с желтым, остро пахнущим чаем.
А скачка гудит уже далеко от нас, в ущелье…
Байга закончилась, как всегда, торжественным долгим обедом — уже в сумерки, при факелах. За жирным, пряными травами приправленным пловом, за душистой шурпой вспоминали отличившихся наездников и коней. Жалели Гассана: «Э-э, лихой байгач, а проиграл! Лопнуло стремя у самого шатра, не смог удержать унесенного козла. И приза не принял. Хотел бек поощрить лихость заезжего гостя, хоть он и проиграл. Не принял: «Беру с боя, не по милости!» Надежный джигит — хоть и с равнины, от мирного, от торгового народа».
Говорили и о Джилге. О прошлых его скачках и о том, какой он был смелый охотник за турами; как он однажды принес из гор туренка — маленького-маленького, еще пухом покрытого; пробовал приручить, целый месяц держал в скале, кормил, да не давал себя даже погладить туренок. А когда Джилга как-то забыл дверь притворить — ну, раз обернуться! — стрельнул туренок во двор, только его и видели. Тура приручить — что с тигрицы снять удой молока.