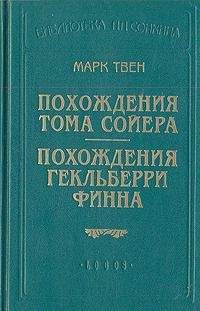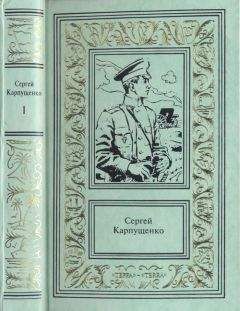— Говорил, что король приезжает в Шеффильд купаться в морской воде.
— Как же он стал бы купаться в морской воде, если Шеффильд расположен не на берегу моря?
— Позвольте! — сказал я в свою очередь. — Случалось вам когда-нибудь видеть зельтерскую воду?
— Да!
— Надо вам было ездить для этого в Зельтерс?
— Нет!
— Ну-с, так видите ли, и Вильгельму Четвертому незачем ездить на море, чтобы купаться в морской воде!
— Как же он ее себе достает?
— Вроде того, как вы здесь получаете зельтерскую воду: в бочонках! В Шеффильдском дворце вмазаны на кухне большие котлы, так как королю велено купаться в теплой воде. На море, как вам известно, нет приспособлений, чтобы кипятить воду!
— Да, теперь я понимаю! Вы могли бы сказать об этом сразу! Это было бы гораздо короче и яснее!
Убедившись, что выбрался опять на твердую почву, я почувствовал большое облегчение и совершенно искренне этому обрадовался, но радость моя оказалась преждевременной. В следующее затем мгновение Джоанна спросила:
— Ну, а вы часто ходите в церковь?
— Постоянно!
— Где же вы там сидите?
— Понятное дело, на нашей скамейке!
— На чьей, вы говорите?
— Конечно, на скамейке вашего дядюшки Гарвея!
— Скажите на милость! Да к чему же ему скамья?
— Чтобы на ней сидеть! Для чего иного и служат скамьи?
— А я, признаться, думала, что его место на кафедре!
«Ах, черт бы его побрал. Я и позабыл, что он проповедник», — сказал я себе самому. Усмотрев таким образом, что я снова попал впросак, я поспешил по давиться опять цыплячьей косточкой и обдумать другой способ, чтобы выпутаться как-нибудь из неловкого моего положения. Раскинув умом, я спросил:
— Неужели вы думаете, что в церкви у нас только один проповедник?
— Мне кажется, довольно и одного! К чему же еще и другие?
— Чтобы читать проповеди королю! Я, признаться, никогда не видывал такой странной девочки! Неужели вы не знаете, что в присутствии короля должны находиться в церкви по меньшей мере семнадцать проповедников?
— Семнадцать! Прости, Господи! Я не в состоянии была бы, кажется, выслушать их всех, если бы мне даже обещали за это Царство Небесное. Ведь так, пожалуй, пришлось бы не сходить со скамьи целую неделю!
— Успокойтесь! Они не все проповедуют в один и тот же день. Читает проповедь всего лишь только один.
— Скажите лучше, как обращаются в Англии с прислугой? Лучше, чем мы обращаемся с неграми?
— Нет! Ее там вовсе не считают за человека. С нею обращаются хуже, чем с собаками.
— Разве ей не дают праздновать, как у нас, по целым неделям Рождество с Новым годом, Пасху и четвертое июля?
— Этого еще только не хватало! Уже из того, что вы задаете такой вопрос, можно догадаться, что вы никогда не были в Англии! Нет, Заячья Гу… Нет, Джоанна! В Англии круглый год не полагается для прислуги никаких праздников. Ей не удается побывать ни в цирке, ни в театре, ни на ярмарке для негров, нигде, одним словом!
— Даже в церкви?
— Совершенно справедливо.
— Да ведь вы же постоянно ходите в церковь?
Я опять попал впросак, так как совсем упустил из виду, что состою в услужении у старого плута. В следующее мгновение я принялся с горячностью объяснять, что лакей — существо привилегированное и находится на совершенно ином положении, чем остальная прислуга. Он должен по обязанности ходить в церковь и сидеть на скамье вместе с членами семьи. Того требует закон и обычай. Мои объяснения оказались, однако, не вполне удовлетворительными, и я убедился, что де вица с заячьей губой порядком-таки сомневается в истине моих слов.
— Могли ли бы вы сказать, как честный индеец, что не наговорили мне теперь с три короба всяческой лжи? — спросила она.
— Как честный индеец, уверяю вас, что говорю чистую правду.
— Так вы ничего не солгали?
— Ровнехонько ничего! Все, что я сказал — сущая правда!
— Положите руку на эту книгу и повторите ваши уверения.
Убедившись, что книга эта оказалась попросту словарем, я смело положил на нее руку и повторил свои слова. На Джоанну это отчасти подействовало: она отнеслась с известным доверием к моим объяснениям и сказала:
— Ну, ладно! Я, в таком случае, постараюсь верить кое-чему из того, что вы сказали, но разрази меня Господь, если я в состоянии буду поверить всему остальному!
— Чему же ты не хочешь верить, Джое? — спросила Мэри-Джен, подходя вместе с Сюзанной к нам. — С твоей стороны несправедливо и нехорошо говорить таким образом с ним потому уже, что он здесь на чужбине, вдалеке от родных и близких! Разве тебе было бы приятно, если бы с тобой обращались таким образом?
— Ну, вот, ты опять, Мэри-Джен, бросилась, по всегдашней своей привычке, защищать человека, которого вовсе не обижают. Я ему абсолютно ничего не сделала. Он начал нести мне разную ахинею, а я дала ему понять, что не верю его россказням. Этим все и окончилось: ничего другого я ему и не сказала. На деюсь, что он может стерпеть такую малость без особенной для себя обиды.
— Тут, милочка, дело вовсе не в великом и не в малом, а в том, что он чужеземец и наш гость! С твоей стороны было нехорошо говорить с ним таким образом. Если бы ты была на его месте, тебе, без сомнения, было бы совестно слушать заявления о том, что твоим словам нельзя верить. Никогда не следует говорить другим людям что-нибудь такое, что могло бы заставить их стыдиться.
— Помилуй, Мэри-Джен! Он говорил…
— Что бы он ни говорил, это совершенно безразлично! Суть дела вовсе не в том. Тебе следовало держать себя с ним как доброй девушке, а не напоминать ему, что он здесь не на родине и не среди родных и друзей.
Слушая ее, я говорил себе самому: «Неужели я позволю старой змее обокрасть такую девушку?!»
После Мэри-Джен выступила на сцену Сюзанна; она, в свою очередь, так отделала свою младшую сестру, что бедная Заячья Губа окончательно смутилась.
Я поневоле сказал самому себе: «Вот какова еще одна девушка, которую эти негодяи рассчитывают обо красть; неужели я им это позволю?»
Тем временем Мэри-Джен, по своему обыкновению, ласковым, любящим тоном провела вторичный натиск на Джоанну и вызвала у нее такие угрызения совести, что бедняжка принялась плакать навзрыд. Обе другие сестры принялись ее тогда утешать.
— Ничего, милочка, — говорили они, — только по проси у него прощения, и все будет исправлено.
Она действительно стала просить у меня прощения и сделала это так трогательно и мило, что мне положительно приятно было ее слушать. Я готов был на лгать ей еще не с три, а с тридцать три короба, единственно для того, чтобы опять дать повод просить у меня прощения.