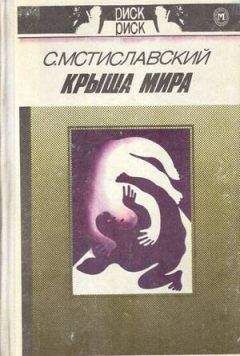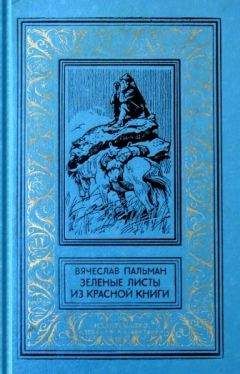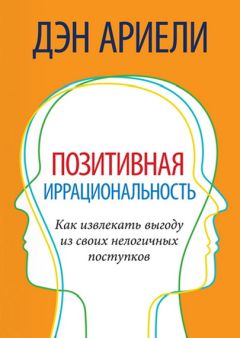— Гм!
«Я открою ушедшим в познание.
Опаленным в горниле огня,
Кто придет на ночное свидание
На исходе четвертого дня».
Он ехидно прищурился:
— Хорошо?
— Хорошо. Только это — не мое совсем.
— А по-моему, одно и то же: ерунда.
— Однако ерунду эту, блоковскую, ты запомнил?
— А что я со своей памятью сделаю? Принес мне кто-то: вот, дескать, у нас в университете новое солнце восходит — явление Пушкина… или как еще там словесники говорят. Прочитал — в память влезло, хотя и явственный вздор.
Я засмеялся:
— В этом-то вся и сила. Вот и я так: ищу по свету, что бы мне в память влезло.
Жорж сокрушенно покачал головой.
— Непутевый ты человек! А профессор еще тебя на кафедру прочит. Ну какой ты, к черту, профессор! Ищет сам не знает чего. Разве так можно наити?
— Только так и можно найти, Жорж.
— Ладно! Ты завтра к поезду-то не опоздай… искатель…
Г л а в а II. В САМАРКАНДЕ
В вагоне (сообщение прямое до Петровска) пятеро оказалось нас, командированных в Туркестан. Мы с Жоржем — естественники, Басов и Алчевский — художники (посланы для обмеров построек эпохи Тимура и Тимуридов). Пятый, Фетисов — юрист нашего же университета: имеет свидетельство о командировке «для обследования обычного права туземцев» от юридического общества, но исключительно, так он говорит, «для легкости циркуляции»; работать не предполагает, едет на свой счет. Белоподкладочник. Отъехать не успели, а он уже стреляет глазами по пассажиркам: видно птицу по полету…
Узнав о маршруте нашем, напросились по русскому Туркестану ехать вместе. Сразу отказаться не сумели. Я теперь каюсь. С Жоржем ездить хорошо: он незаметный, «вещь в себе», как мы его зовем на курсе; не мешает — бурчит себе под нос. А художники эти и в особенности Фетисов — совсем нам чужие, ненужные.
Путь от Петербурга до Самарканда долог. Трое суток в вагоне до Петровска, на Каспийском море. Сутки в Петровске, ждать парохода. Пристань, мол, персы-грузчики. Тюрьма над обрывом. Серая пыль на улице, в чахлом городском саду с заплеванными кругом скамейками и лимонадной будкою. Серая пыль над лазоревым морем: каторжники в кандалах дробят камень на прибрежном откосе.
Пароход — прямым рейсом до Красноводска, поперек моря. Море несуразное: качает, как в полоскательной чашке — кругом: подкатит из-под кормы, вдоль правого борта, под нос, под левый борт, опять под корму. Мелкой дрожью, по-лихорадочному трясет пароход. Дам укачивает с места, без промаха. Едущих мало, и пассажир здесь какой-то особый, специфический. Шкипер говорит: «Настоящих людей, солидных, возить не приходится — не такой рейс: здесь, сколько ни плаваю, либо купец, либо шантрапа».
Мы не купцы: стало быть, шантрапа. Тем более, что едем мы, для дешевизны, в трюме.
Двое суток кудлатится, куражится над нами море. Наконец: берег, песок, высокие сыпучие дюны, пристань, таможенные, грузчики… Не персы уже: туркмены.
И солнце… солнце!
Поезд согласован с пароходом — ждать всего несколько часов. Опять трое суток в вагоне. За окнами бесконечные пески, барханы, стада джейранов, верблюжьи караваны, тощие заросли саксаула — жесткого, колючего кустарника. Станции маленькие, расцвеченные изразцами, туркмены в огромных барашковых шапках продают ведрами урюк (абрикосы) — пятачок ведро…
Все это так знакомо, так уже за прежние поездки пригляделось…
Ночи звездные, темные. На площадках вагонов, свесив ноги со ступенек, пары. Ночи напролет. Выйдешь из вагона проведать: все то же — «ищут Большую Медведицу».
Молодежи в поезде вообще много: едут домой на летние вакации из университетов, из институтов. Перезнакомились, конечно, все. На остановках (стоим на станциях долго) выбегаем гурьбой, бродим по солончакам, танцуем на твердом, как асфальт, шоре…
Насилу высвищет обратно в вагоны машинист. Здесь ведь нравы простые: дожидается пассажиров паровоз. Пока все не сядут, не тронется.
Русские пассажиры, разумеется. Туземцы — не в счет. Для них и вагоны особые, вроде скотских, но с нарами в несколько ярусов: набито — не продохнуть. За билет с них, впрочем, взимают столько же, сколько с русских: по тарифу третьего класса.
А в русские классные вагоны туземцев не пускают. И в вагон-ресторан тоже, само собой; хотя ресторан здесь загаженный до невероятия, безрессорный какой-то… Трясет. На стене, кнопкой, меню:
Плат дижур.
Силянки сивруги.
Разврат с луком.
Поди угадай, что дело идет о селянке, севрюге и розбрате.
Только за Бухарой начинается зелень. Поля, сады, оросительные канавы — арыки, с мутной бегучей водой. Поезд набавляет ход. Зелени все больше, арыки чаще, паровоз отчаянно свистит на поворотах: на полотне то верблюды, то ишаки… На станциях горы фруктов, арбузов, дынь. Чалмы… Красные чембары солдат… Долгий, долгий радостный гудок. Самарканд. Приехали.
* * *
Под вечер того же дня — не успели мы толком распаковаться — явились прошлогодние мои джигиты: Гассан и Саллаэддин. Здесь всякая весть передается устным порядком быстрее телеграфа: о приезде нашем знакомые, которых у меня в Самарканде с прошлых лет больше, чем нужно, узнали раньше, чем мы успели слезть с экипажа у подъезда гостиницы. Джигиты принесли обязательный в таких случаях «дастархан» — «хлеб-соль», приветственное угощение — фрукты, яйца, сахар, чай, лепешки…
Гассан — мой любимец: совсем молодой, всего двадцать три года ему: крепкий, плечистый, сорвиголова. Это он научил меня приемам байги — любимой конной игры туземцев. Мы с ним всегда вместе скачем. Он — крепче меня, я — гибче и легче на скаку и конем правлю лучше. В байге — за мною верх. Но скачет он со мною всегда весело, без завидки. И на походе он — куда скажешь, без отказа. Я очень люблю Гассана.
Второй мой джигит — Саллаэддин — совсем другого типа. Он уже пожилой, лет за сорок. Домовит, скуп; в рассуждении туг; не выпускает изо рта «насвоя» (жевательный табак здешний, порошком); степенен. Для представительства я его с собой и вожу: Гассанка часто мальчишничает. К тому же Саллаэддин мастер увязывать вьюки. По-русски говорит плоховато… Впрочем, и Гассан не очень в русском языке силен. Но для нас это особого значения не имеет: я знаю местные языки, а по-таджикски говорю даже совсем хорошо, так как работал главным образом в горах — среди сплошного таджикского населения.
За чаем говорили, однако, по-русски — этикет требует: ко мне пришли — на моем языке говорят.