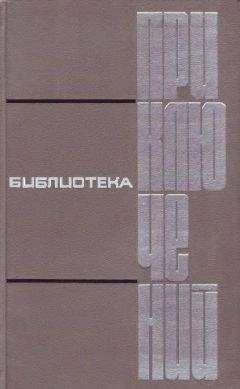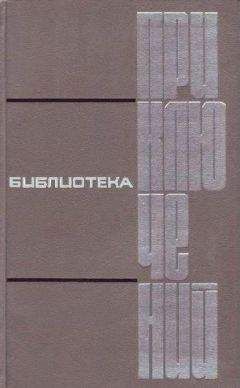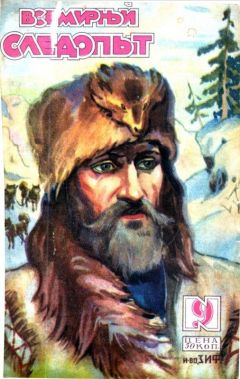— Виктор Александрович, — обернулся от кассы Чепцов, — лозунг сверху какой пустим? “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”?
— А может, “Анархия — мать порядка”? — съязвил Федя.
— Ты меня, шпация, не подкалывай. У вас порядка тоже пока не вижу. Учись лучше, пока я жив. Помру скоро — сам за кассу встанешь.
— А что это вы, Семен Семенович, помирать собрались? — засмеялся Федя.
— Опять зубы скалишь? Помру потому, что лекарства не получаю. По моей болезни полагается мне на день минимум стакан аква вите, по-русски — чистого спирта. А на сон грядущий еще чуток. — Он жалобно посмотрел на редактора. — Я у вас и наборщик, и метранпаж, и печатник, а мне ни синь пороху, ни рюмашечки!
Афанасьев, уткнувшись в гранки, сделал вид, что не слышит.
Выхода своей газеты партизаны ждали с нетерпением. И когда отпечатай был первый экземпляр, разбежалась даже обеденная очередь от кухни. Весь отряд собрался в редакционной землянке. Газета пошла по рукам.
Бросался в глаза крупный заголовок “Партизанская правда”, клише которого вырезал Федя из крепкого, как железо, кедра. Передовая статья комиссара Арсенадзе разъясняла белым солдатам, за кого и против кого они воюют, и призывала их повернуть штыки против Колчака. Кроме Комиссаровой, была в газете и еще одна статья. Писали ее чуть ли не всем отрядом. В ней партизаны обращались к братьям крестьянам, старателям, охотникам, лесорубам и углежогам, ко всем рабочим горных заводов, деревень и тайги с призывом подняться на борьбу с “его империалистическим безобразием, верховным мерзавцем всея Руси, вешателем и кнутобойцем адмиралом Колчаком”[2]. Федя Коровин, писавший статью под диктовку партизан, прибавил от себя концовку: “Вот в чем вся соль и ребус международного положения!” Кроме этих двух статен, была в газете и небольшая боевая хроника отряда и невеселая хроника окрестных деревень: порки, расстрелы, грабежи и бесчинства карательных отрядов.
В общем газета всем очень понравилась. Чепцова даже качали под крики “ура”.
— Газетка ничего, подходящая, — растроганно вытирал Семен Семенович рукавом красный свой нос. — Заголовки, правда, но броские, опять же рекламы в конце нет. А в общем ничего.
— Будет тебе реклама! — сказал папаша Крутогон, пряча под рубаху пачку газет. Он сам вызвался быть, по словам Афанасьева, “заведующим отделом распространения и экспедирования”. — Попомни мое слово, будет реклама!
Вернулся он через неделю. Сел у костра с котелком партизанского кулеша на коленях и, зачерпывая полной ложкой, не спеша рассказывал:
— Газету из рук рвали, из деревни в деревню “по веревочке” передавали. Ну и, само собой, подействовало! В Чунях, к примеру, у карателей десять лошадей отравили. Это первое! — загнул Иван Васильевич палец и начал загибать их один за другим. — В Зюзельке на волостное правление напали, податные ведомости и списки недоимщиков пожгли. А в Космом Броде железнодорожную охрану дубинками посшибали и гайки от рельсов отвинтили. Чего там дале было, не знаю, пришлось мне уйти оттуда, а врать не хочу. И того еще мало. Начали мужики собирать пустые гильзы, свинец, баббит с заводов притащили, а которые винтовки и гранаты с фронта принесшие достают самосильно из подпола, из-под сараев и смазывают жирно. Ну, так и далее. Чуете? Означает, что выпустили мы свинцовый наш залп прямо по врагу!
Иван Васильевич заглянул в пустой котелок, вытер сальный рот и сиял шапку. Люди думали, что он будет богу молиться, за хлеб насущный бога благодарить, а он отодрал подкладку шапки и вытащил лист бумаги.
— Это вам обещанная реклама, — протянул он бумагу Афанасьеву, — а в ней список, кто Колчаку продался. Колчаковские шпиёны, кулаки, которые у карателей- добровольно проводниками служат или сами в карателях зверствуют. Этот вот коммунистов вешал, а этот июда, кулацкий сынок, выдал партизанов, которые в деревню греться зашли. Список народ составил и на сходках приговорил: каждый может их убить, как бешеных собак. Вот и объяви эту рекламу в нашей газетке.
— Объявим в следующем номере, — взял список Афанасьев.
— А заголовок дадим “Под наган!”, — сказал с тихой ненавистью Федя Коровин.
Весна подкралась незаметно. Выше стало ходить солнце, заблестели, залоснились, как облизанные, сугробы, ослепительно отражая солнечные лучи. Папаша Крутогон вернулся из очередного газетною похода мокрый до пояса.
— Журчит уж под сугробами. Герасим-грачевник на носу. Без попа и календаря знаю, — говорил он и жался к большой редакционной печке.
Он рассказал о новых случаях нападений мужиков на колчаковских милиционеров, о казнях агентов белой контрразведки, о поджогах волостных правлений и об открытом бунте в запасном батальоне. И туда через солдат-отпускников забросил Иван Васильевич “Партизанскую правду”. Он помолчал, покусывая обкуренные солдатские усы, потом сказал хозяйственно и озабоченно, будто сидел не в партизанской тайге, а в родной деревне, на угреве, на бревнышках, рядом с деревенскими мужиками:
— Я про Герасима-грачевника неспроста сказал. Мужики спрашивают: готовиться к севу иль нет? А заодно и про школы пытают, ремонтировать их иль погодить? Просят мужики ответить через газету.
— Ну, Иван Васильевич, эта твоя весточка всех остальных дороже! — блеснул горячо глазами Арсенадзе. — Значит, верит народ в нашу окончательную победу и вперед смотрит?
— Народ считает, что к покосу управимся. Очистимся то есть от колчаковской нечисти, — сказал солидно Крутогон.
— А это самое дорогое! — воскликнул комиссар. — Душу свою народ не потерял! Понимаешь, дорогой? Немедленно ответим через газету. Слышишь, редактор?
— Слышу, — ответил смущенно Афанасьев, катая по столу ладонью карандаш. — А у нас, Давид Леонович, одна неприятность за другой.
— Какая неприятность? Докладывай! — посуровел комиссар.
— Сначала краска кончилась. Но с этим делом выкручиваемся. Федя и днем и ночью над коптилкой железный лист держит и сажу соскребает. На керосине затрем и ничего, печатать можно. Спасибо Семену Семеновичу, научил.
Комиссар посмотрел на Чепцова, сидевшего скромно у печной дверцы. Тот смутился под веселым и добрым взглядом комиссара, схватил кочергу и начал шуровать печь.
Афанасьев покашлял нерешительно в кулак и докончил:
— А теперь новая напасть — бумага кончилась. Не знаем, как и быть.
— Бумага кончилась? — откинулся комиссар, как от удара, и вспылил: — Разбазарили бумагу?
— Срыву у нас много, — откликнулся от печки Чепцов и покосился сердито на пресс. — Техника времен Ивана Федорова, первопечатника! Попробуйте, Давид Леонович, приправьте с первого раза на этой тискалке!