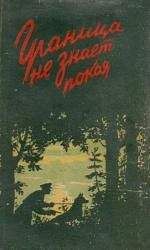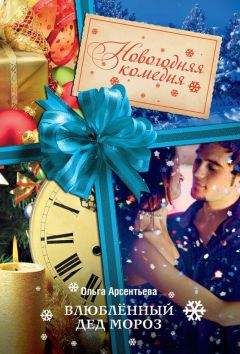От возникшего беспокойства у Горликова становится солоно во рту и взмокают ладони. Он осматривается — кругом ни души.
— Шаян,— шепчет Горликов,— след...
Овчарка вздрагивает, но не двигается с места. Вытянув хвост, она смотрит на Горликова, толком еще не понимая, что он от нее требует.
— След, Шаян,— повторяет Горликов, наклоняясь к собаке и показывая на отпечатки.— След.
Теперь команда доходит до овчарки. Тихо взвизгнув, она делает круг, тычась носом в землю.
— След, след,— настойчиво твердит Горликов, словно радист, вызывая в эфир нужную ему станцию. Он выламывает в ивняковом кусте прямой прутик и измерив им оба следа в длину и ширину, засовывает мерку за голенище.
— След, след, Шаян... Бери.
На один миг овчарка останавливается, вбирая в себя только ею одною учуянный запах тех, кто прошел здесь несколько времени назад. Темная шерсть на загривке встает дыбом, а затем рывком сильного, напрягшегося тела, чуть ли не распластываясь по земле, Шаян тянет за собой Горликова по следу.
Дав овчарке длинный поводок и откинув на ходу полу плаща, а под ним полушубка, Горликов вытаскивает из кармашка часы.
Часы большие, отцовские, с двумя серебряными крышками и ключевым заводом.
Когда Алексея призвали служить на границу, в семье каменщика Никанора Петровича Горликова были устроены проводы. За столом, за которым собрались родичи и знакомые, отец снял с себя часы и сказал уезжающему сыну.
— Я по ним, Алеша, нестыдную жизнь прожил. По ним два раза воевал за правое дело, по ним немало строек поднял, по ним тебя мать кормила. Возьми. Не подведут. Честные часы. Ты не смотри, что с виду старинные, они еще, сынок, и при коммунизме походят.
...Со звоном одна за другой отскакивают крышки.
«В шестнадцать десять обнаружен след у болота,— звучит в мозгу Горликова, как донесение. — В шестнадцать четырнадцать начал преследование».
А Шаян, не отрывая острой мордочки от земли, рвется уже сквозь кустарник. Горликов едва успевает отводить от себя упругие, мокрые ветки, Они щелкают по плащу и обдают разгоряченное лицо водяной пылью.
За кустарниками опять целина и следы на ней, немые, враждебные, и солдату кажется, что они безобразят землю.
Лишь тот, кто служил на границе, кто мок под дождем и стыл на ветру в нарядах, кто, исхлестанный метелью, полузасыпанный снегом, часами просиживал в секретах, оставаясь один на один с безмолвной, ничем, кроме его сознания, слуха и глаз, неприкрытой линией государственной границы, лишь тот знает, что такое след на прикордонной земле и какая тревога в сердце идущего по этому следу солдата.
Необъятное понятие — Родина сейчас становится для Горликова простым и очень определенным, словно все ее дороги, города, люди, села, скрытые до сих пор пространством и отдаленные на тысячи верст, сблизились возле него у самой границы, и он, Горликов, должен оградить их от беды.
Сознание этого придает Горликову силы, но идти трудно и дышать тяжело. Чудится, что воздух сделался таким густым, что его можно резать ножом. Остановиться бы на минуту и отдышаться, всего на одну минуту, а может, и того меньше. Соблазн велик. Рука готова дернуть поводок и придержать овчарку, но солдат только отстегивает верхний крючок полушубка, а под ним ворот гимнастерки. Сырой воздух пробирается за ворот и холодит тело.
Два километра до школки кажутся Горликову бесконечными. Ровная, небольшая площадка просеки, высаженная годовалыми кленами, притаилась между двумя невысокими взгорбками.
Солдат всматривается. На школке, согнувшись, ходит человек, и Шаян, отвлекшись от следов, настораживается, часто потягивая влажными ноздрями воздух.
«Кто там в такую пору» — вслух думает Горликов. Инстинктивно поправив автомат и придерживая собаку, упорно тянущую дальше по следу, солдат направляется к посадке.
Только подойдя ближе он узнает человека. Это лесник, костлявый, длинный, с опущенными седыми усами.
— Не видали, кто здесь проходил? — поздоровавшись, спрашивает Горликов.
Лесник задумывается,
— Как сюда шел, так голову колхоза Яремчука с бригадиром встретил.
— И больше никого? — несколько удивленно и недоверчиво вырывается у Горликопа. — Чужих?
— Нет,— снова задумывается старик,— чужих не видел...
— Как же... — только и может произнести Горликов, испытывая прилив облегчения, которого он еще боится.
— Откуда шли председатель с бригадиром?
— Да с той стороны,— машет рукой старик в сторону границы. — С болота, наверно. Ничего не сказали, как встретились.
«Что им там на болоте,— думает солдат. — А может быть это и не их следы? Кто—нибудь прошел позже или раньше?»
— Давно вы здесь, дедушка?
— Да с час... Пришел проведать. Вон ведь как поднялись за лето! А с колхозов все заявки на наши кленки. Думаю с весны расширяться... А чужих — нет, не было. Это головы и бригадира след.
— Куда пошли — не сказали? — допытывался Горликов.
— Меж собой говорили, будто на новую ферму,— пожимает плечами лесник,— а точно не скажу.
— Это какая новая?
— Да в Новоселице. Как объединились, так в Новоселице новую ферму выстроили, и правление там недалеко.
— Быстро,— заключает Горликов.
— Уж теперь все так.
— А сколько будет до Новоселицы?
Горликов знает, что от лесной школки до Новоселицы восемь километров, но задает этот вопрос с наивной надеждой, что километров окажется меньше.
— Да так,— прикидывает лесник,— с десять будет.
Горликов сдерживает вздох.
— Спасибо,— говорит он. — Будьте здоровы!
— Здоровым будь,— притронувшись рукой до меховой шапки, кивает лесник. — Пошел все—таки?
И, не получив ответа, долго смотрит в спину удаляющемуся солдату, пока тот не скрывается вдали за взгорбком.
Встав снова на след, идет Горликов по целине. Место скользкое, точно лишаем, покрытое отдельными пучками рыжей травы. Ноги разъезжаются, только и гляди, чтобы не растянуться. И оттого, что островки травы похожи на лишай, от того, что опять тянется этот след, земля вокруг кажется Горликову мертвой и пустынной. «Вот дотяну до проселка,— думает он,— там как—то веселее».
И хотя на проселке тоже безлюдье, и дорожная вязкая грязь прилипает к подметкам сапог так, что ее не отряхнуть, но на душе у солдата делается и вправду веселее: как—никак, а все—таки дорога, и люди проложили ее. Летом возят по ней сено с заливных лугов, часто пылит, покачиваясь на мягких рессорах, вездесущая плетеная тележка председателя Яремчука; вышедшая в рейс кинопередвижка, сокращая путь между селами, тоже появляется тут по субботам, и ефрейтор Степанов так и норовит пойти в этот день в подвижной наряд к проселку, чтобы хоть рукой помахать киномеханику Анне Петренко.