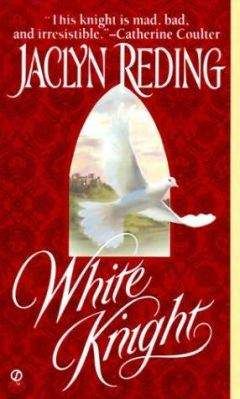Вспомнил я тогда то письмо его, где писал он: «пожалеешь». Вот и пришло это время. Эх, махнул бы я в те дни к другу моему лучшему, повалялся бы с ним в лугах и цветах, надышался воздухом, о котором он писал, может быть, и вылетела дурь из головы?
Как же до физической боли тоскливо! Как хотел бы я увидеть Андрея, с какой горечью вспоминаю его слова, наши споры-разговоры. Ведь всегда прав он был (так мне теперь казалось). Хоть бы раз его послушался.
Да ерунда все это. И он бывал прав, и я. В разговорах. А вот в жизни, в планах, в мечтах — он. Я все не за тем гнался. Это как финты в боксе. Проводит противник обманный удар — кто поумней, того не объегорит, а кто поглупей, вроде заслуженного мастера дурости Рогачева, тот попадется в ловушку.
Только вот с кем я боксирую, кто мне ловушки устраивает? Не сам ли? Не бой ли с тенью проигрываю?
То ли сам теперь в тень превратился. В собственную тень…
Такие приступы истерии, во время которых, если верить фильмам про уголовников, полагается рвать на себе рубаху, царапать грудь и биться головой о стену, со мной случались все чаще.
Все чаще смотрел я с моста на реку, со скалы на океан, с насыпи на рельсы, из окна на асфальт не для того, чтобы любоваться закатом или прохожими, а прикидывая, как побыстрей и безболезненней расстаться с этой ставшей невыносимой жизнью. А что? Чем так прозябать, лучше уж…
Потом я брал себя в руки.
Старался отвлечься, убежать от этих мыслей, помечтать, что все еще обойдется.
Какое-то время я чуть не каждый месяц звонил в иммиграционную службу, спрашивал, удовлетворена ли моя просьба, и, получив отрицательный равнодушный ответ, приходил в отчаяние.
Но постепенно меня охватила апатия. Ну, удовлетворят, ну, дадут американское гражданство, я стану гражданином самой демократической страны в мире, страны великого предпринимательства, равных и неограниченных возможностей. Что дальше? Только за то, что ты американец, зарплаты, к сожалению, не платят. А как живут эти счастливые граждане, я насмотрелся предостаточно. Так какая разница, с каким документом и в каком подданстве мне голодать здесь и нищенствовать?
Я опускался все ниже.
Был случай, когда я отнял какие-то галеты у собак, съел выброшенные на улицу гнилые бананы, стащил бутылку молока, оставленную молочником у двери. Я не менял белье сто лет, отпустил бороду, чтоб не бриться, спал где попало (к счастью, наступила весна).
Тогда-то и родилась у меня мысль пойти в советское посольство, упросить, чтоб приняли обратно. На все, на все я был готов, пусть ссылают, пусть пошлют дворником, землекопом, мусорщиком, все равно кем, лишь бы разрешили вернуться, простили.
Я снова и снова вспоминал московские улицы и парки, и подмосковные рощи и речки, мой дом на тихой улице Веснина, и институт за тенистым сквером на Метростроевской, арбатские переулки, и бассейн на Кропоткинской, и столик у широких окон «Националя», и шумные трибуны Лужников…
Но я вспоминал и своих далеких подруг и приятелей, наверняка сейчас завидующих Бобу Рогачеву, живущему сказочной жизнью в Америке! Эх, если б знать тогда то, что знаю теперь, эх, если б вернуться теперь к тому, что было тогда…
Так вот и жил. Если это можно назвать жизнью. Чем бы все кончилось? Чем бы я кончил, продлись это еще год, два, пять? Да, наверное, тем же, чем все эти мои американские «сограждане», я имею в виду, конечно, таких, как я, которым так же «повезло».
Сдох бы от болезней или в драке, в тюрьме или ночлежке. А может, дожил до нищенской одинокой старости. А может, улыбнулось когда-нибудь счастье — устроился бы ночным сторожем, подметальщиком, чистильщиком сапог. Бывают же удачи…
И вот счастье наконец пришло (так подумал я тогда, не сейчас, не в эти минуты).
Однажды вечером, когда я, голодный, промокший по весеннему дождю, сидел в парке на скамейке и тупо глядел в пространство, ко мне подошел парень с мрачной физиономией и спросил:
— Боб Рогачев?
Я кивнул. Не удивился, не забеспокоился, я ко всему был уже равнодушен. У меня даже мелькнула мысль — арестуют за бродяжничество, за мелкое воровство, все разрешится. Так в тюрьме-то кормят, крыша есть, постель, в общем, не столь уж плохо.
— Пошли, — приказал парень.
Я покорно встал. Мне б и в голову не пришло спросить, что за человек, куда ведет. Кто я такой, чтоб посметь спрашивать? Мы вышли из сквера, подошли к спортивному «форду», парень жестом показал, чтоб садился.
Ехали недолго, куда-то за город. Остановились у высокой глухой ограды, перед глухими воротами, ворота открылись, мы проехали еще метров сто. У одноэтажного дома, похожего на барак (тюрьма, что ли?), остановились окончательно. Парень вышел, поманил меня пальцем. Мы вошли в дом, прошли по длиннющему коридору и вошли в комнату. В комнате — диван, кресла, низкий столик. Парень неодобрительно оглядел мою грязную мокрую одежду, чумазые ботинки, оставлявшие влажные следы на полу, мою небритую физиономию, покачал головой и указал на кресло.
Понимая всю меру своей вины (пачкать такое чистое кресло!), сел, стараясь на самый кончик (не прислониться бы к стенке, не задеть бы подлокотник).
Сидел долго, боясь пошевелиться, чуть не задремал — тихо, тепло, через окно залетают запахи сада, пение вечерних птиц, опускаются сумерки.
Очнулся сразу; кто-то властно, шумно вошел в комнату, хлопнул дверью, щелкнул выключателем, яркий свет ударил в глаза.
Я посмотрел, моргая, на вошедшего. Передо мной стоял мистер Холмер.
Минуту я глядел на него, потом все поплыло перед глазами.
Пришел в себя от чего-то обжигающего, что мне влили в рот. Виски. Закашлялся. Привезший меня парень поставил стакан на стол, сильно похлопал по спине и вышел.
Мистер Холмер сел в кресло напротив, некоторое время внимательно меня разглядывал и наконец улыбнулся.
— Так как вам живется, Борис?
Я пытаюсь ответить, но не могу произнести ни слова. И начинаю рыдать. Рыдания сотрясают меня. Это отвратительно — рыдающий мужчина. Я вижу себя со стороны — грязный обросший оборванец, весь в соплях и слезах. Нашкодившая собачонка, которую в наказание не пускали в дом, а теперь соизволили простить. Надо, наверное, лизать руку хозяину и вилять хвостом. Но у меня даже нет хвоста.
Неужели человек может выдержать такое унижение? И я начинаю рыдать еще сильней.
Мистер Холмер смотрит на меня с выражением бесконечной скуки. Наконец справляюсь с собой. Вытираю глаза грязной тряпкой, которая когда-то была носовым платком. Перестаю всхлипывать. Осматриваюсь, нет ли графина с водой. Нет.
— Так как вам живется, Борис? — повторяет свой вопрос мистер Холмер.