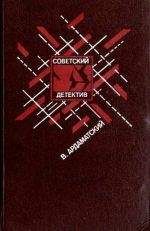Чемоданчик был не особенно тяжелый, но Кумлеву было жарко, изо рта валил горячий пар, он развязал ушанку.
В этот момент его увидел Гладышев. Он по приказу Прокопенко шел выяснить, что с Маклецовым.
– Лоб потрите, белый весь, – крикнул Дмитрий обмерзшему фронтовику.
Кумлев ничего не понял, но покивал на всякий случай.
Гладышев сделал еще несколько шагов и вдруг остановился как вкопанный: «Я знаю этого человека! Знаю!» Он стоял, не оборачиваясь, и, казалось, спиной чувствовал, как удаляется человек со страшным, покрытым инеем лицом. Рука Гладышева рванулась к карману гимнастерки, он вытащил порядком потрепанный квадратик картона со словесным портретом немецкого резидента.
Да, это он! Гладышев на мгновение обернулся, посмотрел на удалявшегося, встал боком, скосив глаза вслед Кумлеву, и соображал, что делать… Несколько мгновений он судорожно думал и пошел, почти побежал вслед. Первая мысль – нагнать и схватить. Но он прекрасно знал, что это проще всего…
Расстояние между ними немного сократилось, и надо было умерить шаг. Гладышев твердо знал, что он не должен упускать из виду врага, должен установить, куда он пойдет.
Легко сказать. А если по дороге мост и на нем ни души, и отстать на целый мост нельзя?
Бремя от времени Кумлев останавливался, ставил чемодан на землю и осматривался. Дмитрий очень точно приладился: как только резидент начинал наклоняться, чтобы поставить чемодан, – в ворота, в подъезд, за выступ.
Они прошли по набережной Васильевского острова – тоже трудное место для Дмитрия. Он вспомнил, как однажды шел вдоль Невы за немцем, который его обнаружил и сумел скрыться.
Кумлев свернул на 9-ю линию. Гладышев был далеко позади, когда Кумлев вошел в ворота дома № 54. Гладышев ускорил шаг, но он не имел права туда входить сразу за объектом наблюдения. Последний мог завернуть в подъезд или в ворота лишь затем, чтобы установить, есть ли за ним слежка. Мысль, что он упускает врага, лишила Гладышева осторожности, и он поспешил за Кумлевым.
Во дворе никого не было. Но следы валенок по нетронутому снегу вели в первый от ворот подъезд. Ступая в чужие следы, Гладышев вернулся на улицу. Позвонить было неоткуда. Уходить нельзя – даже на две-три минуты.
Нужно найти позицию и смотреть.
Наискось от ворот стоял заметенный снегом трамвайный вагон. Это была неплохая позиция. Но со двора мог быть другой выход, и тогда можно ждать тут до скончания века. Враг мог покинуть дом и через другую дверь, черный ход или даже через окно. И в этом случае он, Гладышев, будет, как последний дурак, сидеть возле пустого дома. А все-таки шансы есть… Только обязательно надо подать сигнал в управление. Но на улице – ни единой живой души. Да и не каждого попросишь звонить…
Дмитрий протоптал за сугробом тропинку в один шаг длиной и старался ни минуты не стоять на месте. Но мороз схватил как-то сразу лицо и ноги. Гладышев поплотнее завязал под подбородком клапаны ушанки, сбил иней с воротника и долго тер варежкой окаменевшее лицо, колотил по носу и щекам. Он все быстрее переступал ногами, почти бежал, но ноги уже зашлись. Он остановился и стал быстро шевелить пальцами ног, в это время снова схватило лицо… Но никто не шел мимо…
Кумлев сидел в теплой кухне у Палчинского и отходил от холода и усталости. Включенная рация стояла на столе – радиограмма передана уже полчаса назад; ждали ответа.
Кумлев разделся, снял валенки, лицо красное, с белыми пятнами – натер гусиным салом. Палчинский, в тонком шерстяном свитере и домашних туфлях, кипятил на плите чайник, собирал на стол чашки.
– Пора, – сказал Кумлев.
Радист отстучал ключом, Центр ответил условным сигналом «слушаю» – ответа не было.
– Где сложены мины? – спросил Кумлев.
Они оделись и перешли в большую комнату. Кумлев светил фонариком. Палчинский приподнял покрывало – под кроватью лежал знакомый Кумлеву чемодан с минами, который еще осенью принес через фронт Жухин.
– Вот еще, – сказал Кумлев, запихивая под кровать чемодан Маклецова. – Это очень сложное устройство, но вздумайте открывать.
Палчинский осторожно опустил покрывало.
– Ничего, будем технику изучать, пригодится, – сказал Кумлев, освещая углы, старинную мебель, окно, забитое фанерой.
Вернулись на кухню. Палчинский снова отстучал вызов. Ответа все не было.
– Да, у меня ЧП, Павел Генрихович, – сказал Палчинский, наливая кипяток в большие чашки. – Вчера под вечер приходит, значит… Лет ему пятьдесят. Одет добротно. Я не хотел впускать, но он нахально так вошел. Представляется: Кузьма Кузьмич, мол. Все, говорит, о вас знаю. Я спрашиваю: что такое, в чем дело? А он говорит: вы Пилюгина знаете?
– Кто это Пилюгин? Где он сейчас? – спросил Кумлев.
– Он был в Кронштадте, как и я, сменным радистом и знал, конечно, что я работал для восставших. Мы вместе работали. Только это он и знает. Встречались иногда на улице, здоровались…
– Ну, дальше… дальше…
– Значит, я спрашиваю: чего он от меня хочет? Он говорит: очень мало – у него есть радиолюбительский передатчик, и нужно отстукать радиограмму… Только одну радиограмму немцам, и все. И за это мне – большой куш. Если я откажусь, он идет на Литейный… Я сказал, что за свое прошлое не тревожусь – власти давно про это знают и простили. Но обещал, что подумаю о его предложении. Назначил прийти завтра в час дня.
– Дурак! Зачем вы полезли? – сорвался, закричал Кумлев.
Бледное, плоское лицо радиста покрылось красными пятнами.
– Я бы попросил, – начал он, но Кумлев уже взял себя в руки, он встал и прошелся по линолеуму в толстых носках. – Неужели вы не понимаете, что теперь вас надо отсюда переселять?
– А что я мог сделать? Чем я-то виноват? – сказал Палчинский.
– Пора, – сказал Кумлев.
Радист надел наушники, отстукал вызов, и Кумлев понял по его глазам, что есть ответ. Радист быстро записал что-то и подал бумагу Кумлеву.
«Ответ будет завтра», – прочитал он…
Образовалась цепочка людей, крепко взаимно связанных. Гладышев мерз на улице, ожидая, когда из дома Палчинского выйдет Кумлев. Кумлев ждал ответа Акселя. Аксель же в занесенном снегом, обугленном Новгороде ждал решения Берлина – проблема, возникшая внезапно, оказалась очень сложной.
Прочитав радиограмму из Ленинграда, Аксель в первую минуту готов был немедленно дать согласие на их предложение о диверсиях. Но спохватился: «Прежде чем решать, проверь, кому, кроме тебя, может нравиться или не нравиться твое решение», – учил Канарис. Из уст в уста передавали одну поучительную историю. Канарис предложил однажды принять какое-то важное решение, и быстрые подхалимы сразу объявили его гениальным. Но после этого Канарис снова проанализировал свое предложение по формуле «кому еще оно может понравиться» и путем сложных рассуждений пришел к выводу, что решение может очень понравиться… противнику, против которого было направлено.