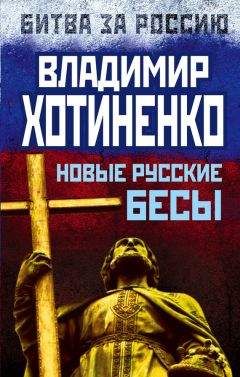Книга Самуели «Русская традиция» во многих отношениях действительно замечательна. В ней с глубоким знанием и добросовестностью рассказана повесть русской революционной интеллигенции. Но этот подробный и нелицеприятный рассказ никак не подтверждает главного тезиса Самуели, а именно, что большевизм будто бы вышел не из марксизма, а из особой варварской русской революционной традиции, немыслимой на Западе.
Решить вопрос, у кого главным образом учился Ленин, не трудно. В многотомных его сочинениях имена Маркса и Энгельса мельтешат чуть не на каждой странице. И не только имена, но и бесчисленные огромные выдержки. При чтении постепенно перестаешь различать, где Маркс, где Энгельс, где Ленин. Образы трех угодников сливаются. Тот же ход мысли, тот же строй чувств, тот же стиль, то педантически наукообразный, то площадной, та же бешеная ярость в полемике, то же неколебимое убеждение, что прогресс не может совершаться без насилия и кровавых человеческих жертв и что, как бы ужасны ни были эти жертвы, на них нужно идти.
Никаких слезинок ребёнка.
И чем больше погружаешься в чтение, тем неотвязнее чувство: Ленин не просто ученик и продолжатель Маркса, а новое его воплощение, это сам Маркс снова пришёл на землю, кончить все, что не доделал в своей первой жизни.
А Ткачёв? Да, Ленин его называет, если не ошибаюсь, раз пять, не больше. Правда, тут обычно ссылаются на рассказы Бонч-Бруевича о том, как Ленин после Октябрьской революции уговаривал своих сообщников изучать Ткачёва.
Что же, верно, так и было. Ткачёв должен был Ленину нравиться. В знаменитой своей брошюре «Что делать?» он отзывается о Ткачёве с большим уважением: «Подготовленная проповедью Ткачёва и осуществленная посредством «устрашающего» и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть — была величественна».
Но когда в той же брошюре Ленин рисует родословное дерево социализма, он называет вовсе не Ткачёва, а Маркса, Энгельса и их учителей: «Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежит к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, которые мы доказываем теперь научно, — так немецкое рабочее движение не должно забывать, что оно развилось на плечах английского и французского движения …».
На тех же самых, а не на каких других плечах стоял и развивался Ткачёв. Его учителя: Макиавелли, якобинцы, Бабёф, Огюст Бланки, утопические социалисты, которых он переводил на русский язык. Всё те же авторы, властители дум Сенкаля и других революционных героев романа Флобера «Воспитание чувств». И вдобавок к ним еще Маркс. Покровский не без основания назвал Ткачёва первым русским марксистом.
Почему же тогда видеть в нем представителя какой-то особой, немыслимой на Западе, русской революционной традиции. Никакой такой традиции не было. Все русское революционное движение, начиная с декабристов, взошло на закваске западных идей.
Вспомним Пушкина: «Ясно, что походам 1813 и 1814 гг., пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли на наших глазах…»
Рассказывая о своих встречах с Ткачёвым в редакции журнала «Дело», П. П. Суворов описывает его так: «Небольшого роста, тоненький, молоденький, стыдливый, вкрадчивый, скрытный, с улыбающимся личиком, Петр Никитич походил на институтку, в первый раз попавшую в общество». [1]
Этот похожий на институтку юноша мечтал о строе, при котором будут господствовать «мир, любовь, согласие и братство, при совершенной солидарности всех людей».
Как ускорить приход такого строя? Об этом мы узнаем от сестры Ткачёва А. Анненской: «Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало, ни много, как уничтожить всех людей старше 25-ти лет».
Однако, значит ли это, что только русская жизнь могла породить такого политического Франкенштейна, как Ткачёв? Мечтателей, готовых для счастья человечества без счета губить человеческие жизни, было немало и на Западе. Не говоря уже о знаменитом Марате, который требовал 273 тысячи голов, Робеспьере, Сен-Жюсте, Кутоне. Но вот примеры не столь известные: при усмирении Вандеи якобинец Лекинио предлагает истребить всё вообще население отвоеванных областей и заменить его новосёлами-«патриотами». Другой уполномоченный Комитета общественного спасения, Лакост, добрее: он считал, что в департаменте Нижнего Рейна достаточно гильотинировать всего четверть жителей, остальных выгнать, оставить только «патриотов».
Вот что рассказывает Герцен о встреченном им в Женеве «умеренном» немецком революционере Гейнце: «Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу». Конечно, по теперешним стандартам два миллиона не так уж много, а всё же…
Сам Ткачёв совершенно справедливо называл себя бланкистом. В Париже он сотрудничал в газете Огюста Бланки «Ни Бог, ни хозяин», (Ni Dieu, ni maître), на похоронах учителя заявил перед огромной толпой: «Он был нашим вдохновителем и нашим вождём в великом искусстве заговора».
И также справедливо Ткачёв называл себя якобинцем. Подобно другим русским якобинцам и бланкистам, он считал, что только «Акулина», дисциплинированная тайная организация заговорщиков, способна совершить переворот и захватить власть. Но Ткачёв был не только бланкистом и якобинцем. Он первый из русских политических мыслителей изучил и принял марксизм и первый стал прибегать к марксистскому анализу. Только в отличие от классических марксистов он допускал возможность для России миновать период капиталистического развития и непосредственно, одним скачком, перейти к социализму. Обычно Ткачёва причисляют к народникам, но он не идеализировал, как они, общину и артель и не верил, что тёмная, невежественная и консервативная крестьянская масса способна сама разобраться в причинах своего бедственного положения и найти средства его улучшить. Нет, сделает революцию и построит социализм образованное, сознательное, сплочённое небольшое революционное меньшинство.
По просьбе друзей Лаврова Энгельс выступил с высокомерной отповедью Ткачёву. Но Ткачёв в «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу» настаивает: «В России, именно благодаря её промышленной отсталости и отсутствию буржуазии, условия для социальной революции благоприятнее, чем в Германии». Об этом письме Маркс сказал: «Это так глупо, что могло быть написано Бакуниным».
Заявляя, что русское государство висит в воздухе, Ткачёв требовал немедленного переворота, предваряющего овладение властью буржуазией.
«Это сам Ткачёв висит в воздухе», — смеялся Энгельс. И он, и Маркс защищали в то время классическую марксистскую точку зрения. «Буржуазия, — писал Энгельс, — так же необходима для социальной революции, как сам пролетариат. Следовательно, заявлять, что такая революция легче осуществима в стране, где нет ни пролетариата, ни буржуазии, это значит обнаружить незнание азбуки социализма».
Бердяев сделал отсюда вывод: «Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее «меньшевиками», чем «большевиками».
Так ли это? Можно ли с этим согласиться?
В 1877 году, забыв о своих насмешках над Ткачёвым, отцы «научного социализма» круто меняют свой взгляд на возможность революции в России. Не называя Ткачёва, они по существу принимают теперь все его положения: мировая революция начнётся в России, её сделает небольшая организация заговорщиков. Благодаря общине, Россия может миновать капиталистическую фазу развития и прийти к социализму прежде всех.
В феврале 1881 года Вера Засулич по поручению чернопередельцев пишет Марксу с просьбой научить, как нужно думать о русской общине.
Маркс ответил нескоро. Оказывается, говоря об исторической неизбежности капитализма, он всегда имел в виду только страны Западной Европы. Изучение убедило его — община может стать опорой социального возрождения России, при условии, что будет устранено всё, что мешает её свободному развитию.