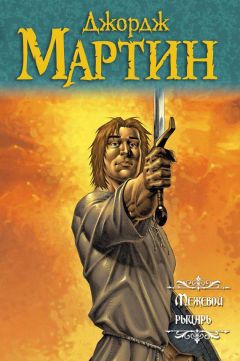Николай Николаевич Златовратский
Красный куст[1]
Из истории межобщинных отношений
В предлагаемой статье я хотел бы коснуться того круга явлений деревенских будней, которые сосредоточиваются около так называемого «межевого столба». Круг этот, надо сказать, очень широк и захватывает чрезвычайно сложную и разнообразную группу деревенских интересов, а между тем нельзя не признать, что в представлении общества этот деревенский межевой столб или «яма» являются далеко не в том свете и не с тем значением, каково оно в действительности. Всякому из нас, городских жителей, отправляющихся летом на «дачи», в лоно деревенской природы, случалось, конечно, в своих прогулках набредать на заросшие бурьяном с плесневелою водой и целым царством лягушек на дне неглубокие ямы, на подгнивший, покосившийся серый деревянный столб с выжженным сбоку черным пятном, уныло согнувшийся набок с краю этой ямы. Вряд ли, однако, многим из нас приходило в голову при виде этого заброшенного в какую-нибудь недоступную дебрь столба, сколько волнений, хлопот, разрушенных надежд, горя, слез и «животишек» стоит он местному крестьянскому населению. Вряд ли в вашем воображении встанет эта печальная трагическая картина, средоточием которой служит межевой столб, если вы человек деревне посторонний. Но если вас сопровождает один из местных старожилов и если вы с ним наткнетесь на такой столб, будьте уверены, что пока вы, пользуясь этим столбом, успеете закурить папиросу, он не преминет вам сообщить, полудобродушно, полуиронически, какую-нибудь любопытную историю, связанную с этим столбом…
– Вот он, вишь ты, столбик-то, подгнил уж, – начнет он, покачивая столб за макушку, – штучка невелика, всего одно полено, а тоже, я тебе скажу, друг любезный, немало в его, проклятого, достатков вложено… и горя было и слез… и всего… В остроге тоже отсиживались немало… Деньгу эту самую со всех деревень шляпами таскали…
– Как же так? – невольно спрашиваете вы, и в ответ вам начинается одна из тех длинных историй о «недоразумениях», которые в недавнее время такой сплошной полосой тянулись через крестьянскую жизнь.
Не успеет еще ваш проводник кончить этой истории, как уже вы натыкаетесь на другой столб и невольно приостанавливаетесь у него.
– Вот тоже, – прерывает себя ваш спутник, – столбик-то… В церкви стояли, крест целовали, присягу присягали, а две головы сахару да три фунта чаю – и вернул на кривую!..
Да, ни много, ни мало, по любовному, значит, размежеванию пять десятинок у нас лугу-то и отдернул.
Вы спешите дальше, спешите, может быть, насладиться прекрасным видом волнующихся золотистых колосьев или отливающих изумрудом лугов, а уж в ваших ушах опять звучит: «Вот столбик-то… Присягу присягали, крест целовали, а два фунта чаю да три головы сахару…»
Но вы уже знаете, что будет дальше, и бежите в сторону от этого, не замеченного вами, столба. Вот наконец вы на опушке леса. Благодатная тень с сыроватым запахом елей охватывает вас. Вы присели в этой тени, опустили ноги в неглубокую ложбинку, всю обросшую душистым зверобоем. Впереди плещется река и играет золотой рябью в солнечных лучах. Вы только что забылись от этой бесконечной, монотонно печальной истории «греха», слез, «животишек», как вдруг замечаете, что ваш спутник, что-то шепча, внимательно разыскивает, всматривается в окружающую местность и что-то припоминает. Он то присядет, то, вытянув голову и шею, поднимется на колена, то встанет, отойдет в сторону, оглянется кругом и все что-то шепчет…
– Ну, так, здесь… Это верно, что здесь, – вдруг говорит он вслух и неожиданно начинает рыться в ложбине у вас под ногами.
– Вот!.. Нашел, как есть!.. Я помню, как не вспомнить!.. То-то, смотрю, как будто столбу надо быть… А вот, вишь, столб-то стащили… А яма-то позаросла. Ну, да я помню… Вот, гляди, вишь, вот и уголь и камни тут… ущупал как раз!.. Как не вспомнить!..
– Ну и что ж: опять – две головы сахару, три фунта чаю? – раздраженно спрашиваете вы.
– Как быть!.. И присягу присягали, и крест целовали… А замест того…
– Знаю, знаю! – говорите вы и лихорадочно спешите высвободить свои ноги из «ямы» и уйти, убежать хоть куда-нибудь от этих нескончаемых «двух голов сахару и трех фунтов чаю»… Но напрасно: эти стереотипные «2 головы сахару и три фунта чаю», выражающие собой стоимость целой «уймы» мужицкого горя, слез и животишек, уже плотно оседают в вашей голове; они преследуют вас всюду, где только нога ваша случайно переступает какую-нибудь границу, межу. С этих пор, есть ли при вас старожилый спутник или нет, всё одно: вам достаточно натолкнуться на такой столб или наткнуться на заросшую бурьяном яму, чтобы в вашем воображении моментально явились «две головы сахару и три фунта чаю».
Говорят, что в стародавние времена существовал обычай во время размежевания брать на межу детей и задавать им при каждой выкапываемой яме внушительную порку, чтобы, так сказать, навеки запечатлеть в их душе и на известных частях тела границы их и чужой собственности. Этот обычай исчез давно, и совершенно основательно, ибо «две головы сахару и три фунта чаю», перевешивающие целую уйму мужицкого горя, слез, молений и животишек, много чувствительнее березовой каши.
Но – это между прочим. Нас не столько интересует здесь маленький человечек, вечно пьяный, нахальный, обремененный семейством и вечно нуждающийся землемер недавно прошедшего времени, который за две головы сахару был готов отхватить у мужиков и мужицкого потомства столько удобных земель, сколько это допускало их невежество в землемерных операциях, и не самые эти «операции», в большинстве случаев всем уже известные и приконченные, сколько интересует другая, современная сторона явлений деревенских будней, обусловливаемая этим межевым столбом.
Невозвратно, читатель, канули в вечность те блаженные времена, когда жила знаменитая бабушка Ненила. Понятно, что в те времена, когда эта бабушка Ненила со своей родной деревней, у которой «лихоимец жадный косячок изрядный оттягал, отрезал плутовским манером», все свои упования формулировала в словах:
Вот приедет барин: будет землемерам!
Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова.
когда все эти упования сосредоточивались на «барине» – и «межевой столб» далеко не играл такой выдающейся роли в уме и душе крестьянина, какую занял он впоследствии. То было время «господское»: и сама Ненила была господская, и дело было господское. Но вот умерла Ненила, и с нею умерли ее «упования». Вместо Ненилы выступили другие фигуры, и ее «упования» должны были принять другую форму. Мужику предоставлено было «уповать» на самого себя, за собственный страх и риск. Но так как крепостной мужик никогда самого себя не знал и собственной воли не имел, то и уповать на себя не мог. А ведь без упования как же жить? И вот наступил период, когда мужик крепко уверовал в какую-то отвлеченную «правду и милость», которые будто бы должны были неуклонно бдеть над ним и не оставить его на конечное разорение. Новая бабушка Ненила свои упования формулировала уже несколько иначе: когда интересы этой бабушки Ненилы с «легкой совестью» разменивались на «две головы сахару и три фунта чаю», она навязывала на спину котомку и, направляясь куда-то, в никогда не виданную ей страну, вместе с «ходочками», говорила: «Да неужто же правды на земле нет? Есть правда, есть… Как не быть правде на земле!.. Только бы дойти до нее, матушки, а уж она, правда-то, свое возьмет, милость окажет»… И пока вторая бабушка Ненила ходила за поисками «правды», история с «тремя головами сахару» принимала поистине грандиозные размеры, а ее детки и внучки уже начинали подумывать о том, как бы с упованиями второй бабушки Ненилы не случилось того же, что с упованиями первой. А раз запало в душу такое сомнение, все более и более подтверждавшееся тем, что ни бабушка Ненила, ни «правда и милость» вслед за ней что-то давно в деревню не заявлялись, оказывалась уже настоятельная надобность придумать какое-нибудь новое упование. И что мудреного, если упование на «правду и милость» сменится, в свою очередь, упованием на всесильные «две головы сахару»?.. Только новое это упование требует для своей реализации кое-чего более реального, чем одна «вера»; чтобы наилучшим образом утилизировать всесильный принцип, выраженный в формуле: «две головы сахару, три фунта чаю», требуется, конечно, прежде всего иметь эти «две головы» в своих руках, а для этого нужно «познать» самого себя и суть окружающих условий… В каком направлении пойдет это «познание» и каков будет его конечный результат, мы доподлинно сказать теперь не можем, ибо это «познание» трудно поддается обобщениям и не втискивается целиком в готовые шаблонные категории. Несомненно, впрочем, одно, что бабушка Ненила этого третьего, нового, «познавательного», так сказать, периода – будет далеко не так формулировать свои упования, как формулировали их ее родительница и прародительница.