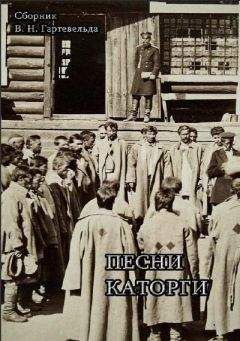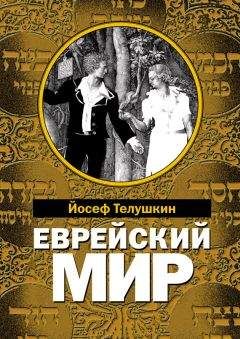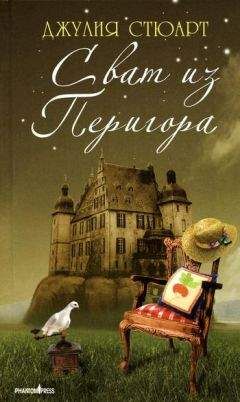Диана Виньковецкая
Мой свёкр Арон Виньковецкий
Одним днем в бостонском Юлиан хаузе, где жила моя мама, её приятельница Циля, услышав от неё мою фамилию, спросила:
— А имеет ли ваша дочь какое‑нибудь отношение к Арону Виньковецкому?
— Это её свёкр, мой сват.
— Мы в нашем еврейском хоре поём песни по его «Антологии». Он автор сборника еврейских песен.
— Я знаю, что он был конструктор кораблей, но не слышала, что он составил сборник песен, — удивилась моя мать.
Да, Арон Яковлевич Виньковецкий был автором объемистого четырёхтомника «Антологии еврейской народной песни», собирателем еврейского песенного фольклора и конструктором кораблей.
Перед нашей свадьбой мы с моим будущим мужем Яковом, прогуливаясь по Ленинграду, говорили о наших родителях. «Мой отец — сказал Яков — в высшей степени образованный еврей, знающий и иврит и идиш. (Слова «иврит» и «идиш» тогда, да и сейчас, были для меня какими‑то ускользающими, смутными, хотя и значительными). Он по профессии инженер — конструктор, почти всю жизнь, пока не вышел на пенсию, проработал в конструкторском бюро Ленинградского судостроительного завода «Марти». Завод делал корабли и подводные лодки. Сначала он учился в Одессе в Политехническом институте, но там не было судостроительного отделения, а отец мечтал конструировать силуэты кораблей, мачты… краны… хотел всегда быть «связанным с морем», и он перевёлся в Политехнический институт в Ленинград. В годы войны отца освободили от армии, как ведущего конструктора, и вместе со всем заводом мы были эвакуированы на Урал. Он автор книг–справочников об устройстве кораблей.
Позже за эти корабельные «секреты» Арона Яковлевича с женой Раей несколько лет не будут выпускать из Союза, и они попадут в списки «отказников», и даже мы с Яковом будем окутаны секретностью Арона, и наш отъезд будет задержан на год. «Ваш отъезд нецелесообразен. Ваш свёкр на секретной работе», — так скажет мне господин–полковник Боков, кажется Виктор Иванович, — начальник Ленинградского ОВИРа, когда я приду на улицу Желябова по вызову в их контору летом 1974 года. Так получилось, что в городе не было ни Арона с Раей, они были в Одессе, ни Якова, он был в экспедиции, и мне одной, как «жертве сионисткой пропаганды» пришлось выслушать отказ («жертвой» меня охарактеризовали в Ленинградском университете, где я работала, и мне сотрудники сочувствовали.) Я тогда возразила Бокову: «Но, мой свёкр уже несколько лет на пенсии, — и ещё добавила: А как насчет двоюродной бабушки?» — Боков криво ухмыльнулся, но как‑то беззлобно повторил: «Пока ваш отъезд нецелесообразен». Я хотела ещё что‑то пробормотать, насчёт слова «пока», но не успела, — помощник Бокова резким жестом пригласил закончить аудиенцию и открыл мне дверь.
В один из дней поздней осенью 70 года в нашем геологическом подвале на улице Савушкина в Ленинграде, где Казахстанская экспедиция, в которой мы вместе с Яковом работали, арендовала помещение для камеральной обработки летних данных, появились два сотрудника КГБ. Им не нужно было представляться, по ореолу, светящемуся вокруг них, и по чёрной «Волге», из которой они вышли, всем сразу было понятно, что это за птицы. Нашему начальнику прибывшие товарищи довольно вежливо пояснили, что им нужно «поговорить» с геологом Виньковецким, моим мужем Яковом. Якова пригласили в чёрную «Волгу» и увезли для «разговора». Естественно, что появление таких загадочных людей, чёрной «Волги», таинственности, не могло не взбудоражить всю нашу Агадырскую группу, и остаток дня никто и не думал работать — и начальство, и геологи, и студенты — практиканты обсуждали случившееся. Все знали, что Яков, помимо геологической работы, рисует абстрактные картины, дружит с разными сомнительными личностями, всяческой богемой, «навозными мухами» (фельетон о приятеле Якова Романе Каплане), «окололитературными трутнями» (о Иосифе Бродском), и никто не сомневался, что где‑то что‑то с кем‑то произошло, что визит блюстителей верности советской власти в наш научный подвал связан с этой художественной шпаной.
Каково же было удивление, когда вернувшись вечером с «беседы», Яков мне рассказал, что «беседа» касалась Арона Яковлевича. «Ваш отец устроил на дому ульпан.» Из уст КГБ Яков впервые услышал слово «ульпан». Как оказалось, Арон Яковлевич обучал «самолётчиков» (так называли проходивших по делу угона самолёта Кузнецова и др.) ивриту. О самолётных планах своих учеников, конечно, учитель ничего не знал. «Самолётчики» боролись за выезд в Израиль, планировали захватить самолёт, их арестовали, судили, дальнейшее широко всем известно, но тогда всё было окутано тайной, и кроме КГБ никто об этом ничего не знал. Позже мы узнали, что на одном из своих заседаний «самолётчики» обсуждали кандидатуру Якова для привлечения его к их деятельности, или как теперь выражаются, акции, но из‑за русской жены и Яшиных христианских симпатий его кандидатура была снята с самолёта.
На другой день, после «беседы с товарищами», чтобы не возбуждать лишних эмоций и чтобы все продолжали работать, Яков придумал объяснение своему вызову в Большой дом, (так в Ленинграде народ называл дом комитета государственной безопасности, мол такой большой, что из него Сибирь видна) — «сотрудники КГБ консультировались с ним насчёт золотого месторождения, открытого им на секретной территории Сары Шагана.» Золотой запас иврита остался в тайне.
Арон и Рая, родители моего мужа Якова, приняли меня как жену своего сына вполне достойно, как данность, даже не присматривались, хотя наверняка, я не соответствовала их желанию видеть сына женатым на приличной еврейской девушке. А тут оказалась русская насмешница — хохотушка. Моя рязанская бабушка считала всех неправославных — басурманами, и мой муж Яков тоже не совпадал с её желаниями. Басурманин и гойка.
Но Яшины родители любили своего сына больше всего на свете, сильнее всех идеологий, и на меня упали лучи их любви, а моя православная бабка обожала Якова, и говорить с ним о религии было одним из её любимых занятий. Яков, как и его отец, был знатоком Библии и истории религий.
Часто Арон Яковлевич мне казался романтиком, простаком. В памяти сохранилась сценка, как Арон Яковлевич отзывает меня в сторонку и шепчет, чтобы я не носила на кафедру подозрительных книг, думаю — «всего боится», конечно, я и не подозревала, что в это же самое время сам он делает совсем «подозрительное», и ведёт себя мужественно. Арон Яковлевич выбирает риск только для себя, а своих детей пытается оградить, защитить. Долго я не знала, что два его старших брата давно живут в Америке, что он с ними переписывался по каким‑то каналам, что он посещает синагогу, что собирает еврейский фольклор.
Заявление на выезд в Израиль он не подавал, боясь повредить карьере Якова, хотя годы думал об отъезде, и был так рад, узнав, что мы решили покинуть наше Социалистическое Государство. «Я этого давно жду», — сказал Арон Яковлевич и обнял Якова. Нередко казалось, что своего сына Якова он любит больше, чем себя.
Недовольство родительской властью, отчуждение от родителей часто закрывают от нас их сущность, и, оглядываясь назад, вдруг видишь, как ты многое не понимал, не замечал.
Увлечение Арона Яковлевича еврейской народной песней было не случайным, оно шло от деда–кантора, от традиций дома, в котором любили петь, и народные еврейские песни постоянно звучали в его семье. Арон Яковлевич хорошо знал и любил и русские народные песни, которые вдохновенно пел вместе с моими тётками–певуньями на наших семейных встречах — праздниках.
В двадцатые годы в юности Арон Яковлевич работал в еврейской Одесской школе для детей сирот, где не только обучал их грамоте, но и разучивал с ними народные песни. Там он и встретился со своей будущей женой Раей, работавшей в соседнем детском доме, и она стала его другом и помощником на всю жизнь, они прожили вместе более шестидесяти лет. Вот такие бывают соединения!
С молодости Арон Яковлевич собирал пластинки с записью почти всех известных певцов и канторов. В тридцатых годах Арон и Рая были знакомы с Зиновием Ароновичем Кисельгофом, знатоком еврейского национального фольклора, директором еврейского детского дома на Васильевском острове в Ленинграде. Когда в Ленинград приезжал Госет во главе с Михоэлсом и Зускином, то они заезжали за Зиновием, который для них всегда играл и записывал песни Арона Яковлевича. Когда ликвидировали Госет, то Зиновия арестовали и он погиб в лагере.
В начале 20 века в Петербурге существовало общество еврейской народной музыки, которое занималось собиранием, изучением и популяризацией еврейской песни с использованием синагогальной и бытовой еврейской мелодии в практике профессионального композиторского творчества. Активную роль в его создании сыграл Н. А. Римский–Корсаков, который считал, что еврейская музыка замечательная, и ею нужно заниматься. Немаловажное значение имел и тот большой интерес, который проявляли к еврейскому мелосу русские композиторы: «Еврейская песня» Глинки из его музыки к трагедии «Князь Холмский», «Еврейская мелодия» Балакирева, а Мусоргский ввёл подлинную еврейскую мелодию в кантату «Иисус Навин», и эта мелодия в числе других выгравирована на его надгробном памятнике в Александро–Невской лавре. Общество еврейской народной музыки просуществовало до 1919 года, как и многие другие общества, после революции оно было ликвидировано.