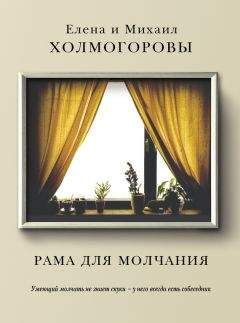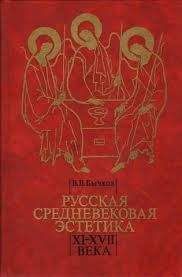И только из одного окна, если посмотреть чуть левее, вид остался прежним.
Там возвышается увенчанный триколором Белый дом.
Даже странно, что так было не всегда. Ни трехцветного флага применительно к России (естественно, после 1917-го), ни названия «Белый дом», кроме как для вашингтонского, до 1991 года мы не знали. Да и слово «путч» в зависимости от поколения вызывало ассоциации либо с Испанией, либо с Чили.
19 августа рано утром мне позвонили. Думаю, так было у многих: «Включи радио». Я ночевала в Москве, в родительском доме, а моя семья оказалась разбросана по разным местам Подмосковья. Сейчас не вспомню, как в отсутствие мобильных телефонов мы связались друг с другом, но первая мысль была: «Надо быть всем вместе. Неважно где, но вместе». Мама ехала в город по Минскому шоссе, забитому танками. Муж и дочь – на электричке. Жива еще была моя няня, радио как раз стояло в комнате, где она спала. Тетя Паня очень удивилась и задала всего один, но для нее, пережившей сорок первый год в брянской деревне, естественный вопрос: «Не война?» И, успокоенная моим отрицательным ответом, перевернулась было на другой бок, но потом спохватилась: «А эвакуации не будет?» Что я могла ей ответить? Если бы я сказала «разве что эмиграция», едва ли она поняла бы меня.
В тот день были сороковины моего отца. Мы с няней резали салаты, и она, видя мое состояние, все утешала меня, говоря, что папа теперь с ангелами на небесах.
Нет, я не была на площади перед Белым домом. Ни в тот день, ни на следующий. Большинство считает постыдным признаться в этом – как же так, не встать на защиту демократии! А я не стыжусь. Я не герой. И мне было страшно…
Сколько лет прошло, а я до сих пор вспыхиваю, когда при мне говорят, что сразу было ясно, что все это-де фарс и не продлится больше трех дней. Я жила при этом, не надо мне рассказывать сказки! Всё было страшно, непонятно, тревожно.
Впервые в нашем интеллигентном доме шло застолье при включенном телевизоре. А на кухню то и дело выходили послушать «Эхо Москвы».
Объявили комендантский час с десяти. Гости заторопились уходить. Мама и няня начали убирать со стола, а мы пошли домой. От Брюсова переулка до переулка Скатертного минут двадцать ходу.
Прохожих на улице почти не было. Зато у здания ТАСС замерли два танка. У Никитских ворот, прямо у Большого Вознесения, еще не украшенного колокольней, стояли «Жигули» со спущенным колесом. Мужчина прикручивал запаску, а женщина и мальчик лет семи топтались рядом. Я лишь скользнула по ним взглядом. Но когда наши старинные настенные часы пробили десять, меня буквально затрясло. Мирные обыватели, как говорили в старину, не вкладывая в это слово никакой отрицательной семантики, ехали домой и вдруг – колесо! А тут комендантский час! Как я могла не позвать их к себе! Всегда в острые моменты жизни зацикливаешься на каких-то мелочах, деталях – это известно. И я поняла, что если кого-то застрелит патруль этой ночью, буду чувствовать себя убийцей.
Хорошая забава – всем рекомендую – попытаться назвать, например, десять самых счастливых дней в своей жизни. Или сто. Или пять. Я пробовала. В десятку таких 22 августа 1991 года входит точно. Сколько надежд он вместил… Муж и дочка были на том митинге, когда толпа стала народом, а двойник многометрового трехцветного полотнища, которое колыхалось в первых рядах, взвился на флагштоке Белого дома. А я пошла на работу. Редакция «Знамени» тогда была на Никольской улице. Или она еще носила гордое имя улицы 25 Октября? (И как люди пишут мемуары?! Да подробно, убедительно, с прямой речью. Стоит попробовать самой, мгновенно утрачиваешь к этому жанру доверие. Разве что у других память получше. Но я не мемуары пишу, вспоминаю то, что ярче всего въелось в сознание.)
Под вечер кто-то прибежал с улицы: «Памятник Дзержинскому валят!» Выскочили на площадь. Помню, как первое время после переименования люди вздрагивали, слыша в метро «Следующая станция “Лубянка”». А теперь привыкли. У железного Феликса на груди болтался самодельный огромный плакат: «Хунте хана». В толпе сновал иностранный корреспондент, вероятно немец, обвешанный фотоаппаратами, и растерянно спрашивал всех подряд: «Вас ист хана? Что есть хана»? Я отмахнулась от него: «Хана есть капут!». Он понимающе закивал.
«Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин», – сказал Френсис Бэкон. Как трудно теперь переваривается этот ужин…
2
Прошло два года, и наступил октябрь 1993-го. И, как ни странно, причуды ассоциативного мышления у меня прочно связали «расстрел» Белого дома с добрыми милиционерами, школьными уроками физики, Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, Александром Трифоновичем Твардовским и Анной Андреевной Ахматовой.
Сейчас ход событий подзабылся, зато иные детали, отстоявшись, проступили еще ярче. В день, когда противостояние между Ельциным и парламентом уже приближалось к точке кипения, я шла к дому от метро «Баррикадная». Станция в очередной раз готова была оправдать свое название: вокруг было неспокойно. Люди с красными бантами на куртках и пальто, собравшись кучками, бурно обсуждали план грядущих боевых действий. Час пик уже миновал, и центр города, давно превратившийся в скопище офисов, практически вымер. Он еще раз ненадолго оживет, когда закончатся спектакли и концерты, но до этого еще не меньше часа. А сейчас каждый человек на виду. Я поймала себя на том, что стараюсь идти, прижимаясь к стенам домов, чтобы быть незаметнее. Однако моя одиноко спешащая фигура явно дисгармонировала со всеобщим единением, а потому неизбежно бросалась в глаза. Ко мне подскочил невысокий плотный мужичок, показавшийся мне необыкновенно уродливым, наверное, от страха и внезапно накатившей брезгливости, схватил меня за рукав и закричал, тыча пальцем мне в живот: «Вот все из-за таких, как ты! Молодая, здоровая, и равнодушно идешь мимо!» Через мгновение я оказалась в плотном кольце. Подошел милиционер – совсем молоденький, почти мальчик, с автоматом на груди. «Да отпустите вы женщину», – сказал он мирно, сразу поняв ситуацию. Соратники переключили весь гнев на него: «Лучше не лезь, будь ты проклят!» – «Да, – подхватила кликуша в розовой вязаной шапочке, – и дети твои пусть будут прокляты!» Милиционер сжал автомат, и я с ужасом физически ощутила, что он не игрушечный. В это время, на мое счастье, раздался усиленный мегафоном командный голос: «Товарищи! Все на Садовое кольцо! Возьмемся за руки, перекроем его, и жизнь в Москве замрет!» Воодушевленные заединщики, вмиг утратив ко мне всякий интерес, кинулись к проезжей части. Я перевела дух и уже не таясь рванула в том же направлении. Вовсю гудели машины, медленно пробираясь сквозь толпу. Потом я поняла, что народу было не так много, человек сорок, но в тот момент они казались массой. Меня опять схватили за рукав и потянули в цепь. Я вырвалась и подбежала к милиционеру – на этот раз здоровенному мужику. «Помогите, пожалуйста, вон там, – я показала рукой, – мой дом!» И он, как дядя Степа из детской книжки, перевел меня на другую сторону…
Когда я вошла в переднюю, часы пробили девять. Кот радостно начал тереться мне об ноги, а муж спросил: «Чай пить будешь?» И горела старинная лампа под серебристым абажуром. Здесь был мой привычный, уютный мир, а в нескольких сотнях метров – война. Самая страшная. Гражданская. «Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен!» Это Булгаков, «Белая гвардия», абажур как символ турбинской квартиры, устоявшегося быта и бытия. Страшный контраст озверевшей толпы, хаоса и непонимания и простого человеческого счастья.
В новостях было сказано одной фразой о неудавшейся попытке перекрытия Садового кольца.
Утром вышла во двор и обомлела: вокруг мусорных баков образовалась настоящая свалка. Сегодня машины не пускали в центр! Да, опять Булгаков, теперь «Собачье сердце»: «Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах!»
В булочной была непривычная очередь. Брали хлеб в запас. Но не это удивило меня больше всего. Очередь глухо, напряженно молчала. В России так не бывает, особенно в неспокойное время. А тут мало кто мог разобраться в действительно сложной политической ситуации. Годы спустя все еще будут ломать копья, и даже вроде бы близкие по взглядам люди до сих пор разделены незримой чертой по отношению к тем событиям, и число жертв разнится от нескольких человек до «гор трупов». Но я не о политике. А лишь о том, как очередь за хлебом молчала, потому что в гражданской войне граница «свой – чужой» не видна простым глазом.
По телевизору шел прямой репортаж компании CNN от Белого дома. На мосту через Москва-реку собралась толпа зевак, а танки уже нацелили свои хоботы на дом с развевающимся трехцветным флагом. Почему-то вспомнилась потрясающая по своей точности строчка из «Василия Теркина»: «Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта». Но солдаты в железном чудище все видели и знали цель, хотя журналисты говорили, что бьют холостыми.