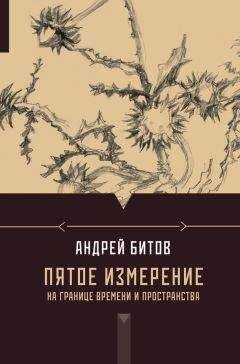Народу принадлежит только язык, который власть, от избытка, время от времени покушается реформировать. Поэтому так популярна бардовская словесность. Здесь создается иллюзия, что хотя бы слава принадлежит народу. Это удалось в случае Окуджавы, Высоцкого, Жванецкого даже в самые идеологические времена. Поэтому мне всегда было непонятно, почему до сих пор никто, кроме близко знавших его людей, не знает славного имени Сергея Салтыкова. Слава его не распространялась. Будто каждый слышавший его увязывал собственное восхищение в узелочек и уносил с собой. Сколько бы я ни делал усилий по вербовке его поклонников – никакого результата! Никто не пустил шепоток: знаешь, что я вчера слышал!
Чем больше живешь, чем больше теряешь близких, тем лучше чувствуешь, что после них остается: жест, случайно рассказанный анекдот, строчка…
Иначе, цитата. Я набит цитатами из Салтыкова, его строчками много больше, чем чьими бы то ни было другими, я вставляю их в свою речь на каждом шагу…
Не поите рыцаря пивом, мне ведь пьяному не вспрыгнуть на коня…
Я памятник архитектуры, стою без крыши и креста…
Здесь одиночества ночную колоннаду услышишь снова ты…
И задранным мостом изломан горизонт…
Укроп, сельдерей и маленький крест деревянный на могиле моей проросли…
Не говори с водою о любви, ей не до нас, она бежит по трубам…
Воспоминания нагрянули: три пирожных на рояли…
Вымойте пол у себя на душе валерьянкой, в чистую водку поставьте лиловый цветок…
Не плачь, не плачь, все как-нибудь устроится…
И корабли вернутся из-за Полюса…
И будут танцевать молоденькие мичманы… —
меня тут же окликают: откуда это? Я начинаю рассказывать, собеседник скучнеет: не знаю, не слышал. Будто в этом все дело. Чем темнее человек, тем больше он все знает. Ряды признанных всегда сомкнуты: на первый-второй рассчитайсь!.. По сути, любая похвала есть игра на понижение – вот так хорошо и хватит. Кто поругивает, вопреки собственному желанию, подталкивает вперед. Так и замрешь посередине (вот и механизм критики: воспитание посредственности).
Мало хорошо написать – надо обрести судьбу. Судьба Сергея Салтыкова в непризнании. «Меня будут читать в 1929 году», – сказал Стендаль и как в воду сквозь столетие глядел. «Таланты? Заслуги? Достоинства? – пустое! Надо только принадлежать к какой-нибудь клике», – сказал он же.
Откуда это? Идет чемпионат Европы по футболу 2004 года, а я твержу эту бессмысленную фразу. Те, кто помнит, что такое бек и хавбек, почти вымерли. Салтыков! вот с кем бы я сейчас смотрел под пивко великий матч Англия – Португалия… Выходит, с ним было легче любить жизнь.
Однажды он обиделся на мои размышления о прихотях признания: «Ты думаешь, мне недоплатили? Я получил сполна – любовью».
В полу аптечная ромашка,
К ней, из небесной синевы,
Случайно залетает пташка
В зияющий пролом стены.
К ней, не ко мне… И то спасибо.
Ведь время не река, а – глыба. Это первая публикация Сергея Салтыкова (посмертная).
Потом трубит в свой маленький рожок
И вновь скрывается, как маленький божок.
Н. Заболоцкий
31 ДЕКАБРЯ 2000 года все еще анкетировали, кто из XX века останется в XXI-м. 1 января 2001 года вопрос сам собою отпал – сменилась эпоха описания. Баратынский стал крупнейшим поэтом XIX века в XX-м, Заболоцкий станет крупнейшим поэтом XX-го в XXI-м. Сергея Вольфа, очевидно, ждут его сто лет.
Первая поэтическая книга Сергея Вольфа «Маленькие боги» была отпечатана в Германии небольшим тиражом, и такое событие, как открытие нового поэта, произошло лишь в душе нескольких читателей (включая и издателя, и автора этих строк). Никто из здравствующих поэтов не потеснился.
«Розовощекий павлин» представляет нам этого тайного мастера полно.
Если книга лирики – автопортрет автора, то Сергей Вольф похож на розовощекого павлина лишь очевидностью красоты стихов: они расправляются, как хвосты.
Беру любое, наугад, нараскрыв…
Шершавый бес в болотных рукавичках
Глядит на лес сквозь перышки на птичках,
Сквозь гнезда и сквозь птенчиков тела,
Сквозь гарь и блеск оконного стекла
На дряблый пень, где молодость прошла.
Глядит, как зверь, вращая головой,
Как стонет лес, чернея, строевой,
Как съежилась улитка под листвой,
И красный дым скользит из дыр болотных,
Сжигая птиц и бабочек голодных,
И как дрожит душа…
Не знаю, каково павлину на воле, в неволе он всегда «наг и беден», как лермонтовский пророк. И так же горд, хотя сам своего хвоста не видит. Он видит, как она его видит. Лаура или Беатриче?
Все стихи посвящены ей. Ей как таковой. И вы не разгадаете кому.
Она сера, невзрачна и скрыта, как птичья самочка. Но какова сила его любви! Его лирики… Натурфилософия – та же любовь. Одиноко и обреченно, как флаг разбитой армии чувств, трепещет павлиний хвост.
Мы несправедливы к его красоте. Впрочем, мы несправедливы к красоте вообще. С тех пор как ее стало мало.
В тридцатые одному эмигранту из Петрограда довелось посетить Ленинград. Он прошелся по Невскому и спросил: куда подевались красивые люди?
Вольф – красив: это, как сказали бы теперь, его имидж, его месседж.
Все мы, питерские, такие: не шестидесятники. Шестидесятники мы разве потому, что нам за шестьдесят, что дети наши родились в шестидесятые, что мы с шестидесятой параллели. «Великий город с областной судьбой»… К Питеру несправедливы, как к красоте.
Если бы не Бродский с Довлатовым, нас бы до сих пор не заметили.
Зато теперь мы реваншисты.
Что это было за время такое, когда разница до пяти лет означала чуть ли не разницу в поколениях? Ленинградская оттепель – лужицы на льду: все еще ждановская, уже вечная мерзлота. «Обком звонит в колокол».
Конец пятидесятых… Сережа Вольф сильно старше меня: года на полтора-два. Книгу его рассказов, неизданную, но переплетенную, высоко оценил сам Олеша. В моих воспоминаниях: ни строчки без дня. Вот день, когда Вольф мне дает «Столбцы»; вот день, когда я слышу от него слово Набоков: вот день, когда он мне показывает четыре тома Пруста; вот день, когда он учит меня пиву: в Ленинграде открыли первый бар, а я еще ни разу в жизни пива не пробовал. Учитель.
Вольф был учителем целого поколения. Великолепный рисовальщик Свет Остров что бы ни рисовал, зайца или льва, а получался – Вольф. Выросши в сени его мифа, Довлатов сослужил ему недобрую службу, прославив его в своих соло, сделав его (как и многих) своим персонажем.
Вольф был талантлив именно во всем. Вкус оказался его кармой и проклятием. Стиляга, он мог нарисовать на салфетке, или спеть в джазе, или станцевать, между прочим, сыграть в кино. Синкопированная личность.
Между прочим, он мог сочинить и такой стишок:
Сяду я на саночки
И поеду к самочке.
Сюртук мальчика
С модной вытачкой,
Тоньше пальчика
В фалде дырочка.
В эту дырочку
Мы глядим на свет —
Нам на выручку
Кто идет иль нет?
Жил один Сверчок…
Господи, прости!
Наступил молчок
На всея Руси.
Ю. А. по поводу отъезда В. А.
Под утро, когда сон некрепок,
увидел я двенадцать кепок.
И был ужасен этот сон,
поскольку неопределен
состав был лиц под каждой кепкой
(я спал, как сказано, некрепко).
И окружили мне постель
с фальшивой робостью гостей:
одно лицо из леденца,
одно лицо из холодца,
одно вареное лицо,
одно крутое, как яйцо,
одно светилося насквозь,
а между глаз был вогнан гвоздь,
одно в три стороны равно,
а три сливаются в одно,
лицо как моль,
лицо как соль,
все вместе – как зубная боль.
(Но кепка каждого – одна,
она у каждого видна.)
И этот стройный, зыбкий ряд
над спящим мною час подряд
и сокрушался, и кивал,
а я как будто так лежал,
лежал, как спал,
лежал, как плыл,
лежал я – из последних сил,
расшатываясь в боли редкой
(как лейка черт под каждой кепкой…).
И вот один, шагнув вперед,
за всех раскрыл всеобщий рот
и, кепку натянув поглуше,
до подбородка смявши уши,
сквозь кепку ватно объявил:
КОНСИЛИУМ ПОСТАНОВИЛ!
«Поскольку ты давно нас дрочишь
И с нами по пути не хочешь,
И вслед способен отвалить,
ТЕБЯ ИЗ ЗУБА УДАЛИТЬ!»
7 июля 1980
Невский проспект
После крещения
(Человек в пейзаже)
Закат не ведал, как он красен был,
Морская гладь не для себя серела,
Не видел ветер, как он гладь рябил,
И дерево на это не смотрело.
Они стояли, в ночь заточены,
Незримы для себя, свища, пылая,
Ни световой, ни звуковой волны
Не изучив, но ими обладая.
Не знало небо, что луна взошла,
Что солнце скрылось. Темнота густела.
Вокруг незнанью не было числа.
Никто не знал. И в этом было дело.
Ничто не для себя на этом берегу.
Зарозовела в небе птица… Что мне?
Куда бежал? Запнулся на бегу,
Один во всем – и ничего не помню.
Тень облак, сосен шум и шорох трав,
Напрягши ветер, вечер чуял кожей…
И умирал. И, «смертью смерть поправ»,
Опять вознесся и опять не ожил.
Кого свое творенье веселит?
Кто верует в себя? Кому ключи от рая?
И волосы – лишь ветер шевелит
У дурака, что зеркальцем играет.
Кто строит дом – не тот в дому живет.
Кто создал жизнь – не ищет смысла жизни.
Мысль свыше – не сама себя поймет.
И путник сам себя в своем пути настигнет.
Июль 1982