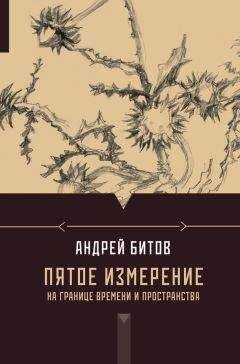Удовольствие представлять себе его удовольствие.
В Париже бы они встретились. Черные дедушки их бы подружили. Пушкин рассказал бы Дюма скорее о Потоцком, чем о Лермонтове, и пригласил бы Дюма на Кавказ… Пушкин дописал бы «Альфонс садится на коня…».
Дюма переписал бы «Капитанскую дочку» в «Дочь капитана».
///
Из дневника…
24 декабря 1991 (немецкий сочельник), Фельдафинг
…Фауст и Мефистофель, Моцарт и Сальери, Обломов и Штольц… Печорин и Грушницкий, Мышкин и Рогожин… Да это же сплошь отношения человека с автором (больше, чем автора и героя). Взаимоотношения с самим собою. Все романы Тургенева – попытка занять чужую позицию. Раскольников и Порфирий Петрович – может, единственная попытка не разделить, а обратно слить «двойника». Достоевский про все это очень знал. Поэтому так восхищался «Дон Кихотом», где Рыцарь печального образа и Санча Панса так противоположны, что едины. Аристократ и крестьянин составляют народную пару в одной душе. Ведь все эти двойники в одном лице – Сервантес, Гете, Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Достоевский – еще и третьи лица.
Может, несравненность «Гамлета» в том и состоит, что он воистину о д и н; ему противостоит разве Офелия, но другой пол не в счет (тогда). У Фауста это уже Маргарита – действительно жертва, которую никому не жаль. Фауст живет с Мефистофелем, а с ними обоими – Гете. И они – однополы.
Для феминисток все это, должно быть, сборище педрил.
30 ноября 1991 (в поезде Мюнхен – Цюрих)
Недописанность русского героя выражена в отношении к писательскому имени… Писательское имя дописывает персонажей и героев, возвышаясь над убогими. Дон Кихот, Гамлет, Фауст, Гулливер, Робинзон существуют уже без автора. Онегин без Пушкина не существует, а Печорин без Лермонтова. Имена великих русских писателей возвышаются над их созданиями и биографиями, как снежные пики из облачной мути. С ними легче оперировать, они поддаются оценке, а не постижению. Имена в России открывают, закрывают, насаждают… П р и м н у т имя: Гончаров, Лесков, Клюев – а оно пробивается как РОЗАНОВ. Имена Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов почетно проносят над головой, почтительно обходят. На Есенина – посягают (оттуда и отсюда…). Имя и то не собственное, а товар. Само живет лишь имя Грибоедова да Вени Ерофеева.
24 ноября 1992 (в поезде Берлин – Гамбург)
Позавчера, в роскошной парной, спросил у Н., пригласившего меня: «Что сделать, чтобы начать уважать себя?» Н. давно здесь и не понял русского вопроса. «Надо поискать ответа в “Фаусте”», – смеясь и не задумываясь, ответил за него его шестнадцатилетний, выросший уже здесь, балбес. Устами…
У кого это: «Кто, наконец, напишет русского “Фауста”?» Томас Манн решился написать немецкого… Достоевский написал русского «Дон Кихота»… Что за распутье для русского богатыря: Гамлет, Дон Кихот или Фауст? Пушкин выбирал Дон Гуана. Где у него Гамлет? Пушкин сам – «Тот, Кто Пролил Кровь»… У нас писатель – сразу Христос, а не Гамлет, не Фауст.
У нас и д’Артаньяна нет.
Систему антигероя у нас начали раньше всех, потому что опоздали к герою. Столько всяческого героизма – и нет героя! Вопли соцреализма по этому поводу, оказывается, имеют куда более глубокую, если не философическую, основу. «Разве у нас нет?..» – спрашивает Пушкин Чаадаева, утверждая, что есть. Сам Пушкин в этом смысле несет те же сто пятьдесят лет на себе нагрузку русского героя. Он сам себя написал. Экзист-арт, так сказать. Он и в Годунова, и в фольклор залезал – за героем… Нашел Петра, разбойника Пугачева…
Нету! Папье-маше Васнецова… Тираны, да разбойники, да поэты – всё во плоти. Соцреализм воплотится в герое-инвалиде: Корчагин, Мересьев, Николай Островский – в одном лице и поэт, и инвалид…
(Отвлекаясь в окошко: заснеженная, такая русская, земля…)
Поля-я германския-я-я
Да пораскину-у-улись…
Трудно т а к запеть. Говорят, природа не изобрела колеса… Она изобрела русского человека – перекати-поле (единственное, кстати, подобие колеса, отмеченное в живой природе).
Все, что н е написано, – произойдет с автором. Подмена арбайтен (работы) судьбой, хоть и с большой буквы. Герои князья, цари, святые… Потом попытки цивилизации: Петр, Ломоносов, Пушкин, Менделеев, Чехов… Потом уж – антихрист Ленин. Поиски пути вместо воплощения. Герой – ведь это уже цивилизация: революция в сознании, эволюция сознания. Конфликт ликвидирован. Как в секс-шопе… Онегин, Печорин, Чацкий, Хлестаков, Базаров, Обломов, Раскольников, Мышкин – вот наше политбюро.
Передонов, Аблеухов, Самгин, Живаго…
Смешивать автора с героем нельзя, а характеризовать самою способностью (или потребностью) создать героя – можно. Так, Лермонтов хотел создать в Печорине героя авантюрного романа, что характеризует Лермонтова, не имея отношения к Печорину…
Пушкин уже писал Онегина, когда выпорхнул Чацкий. Грибоедов его опередил, и Пушкин, справедливо, переживал это. Чацкий – первый антигерой. Не Онегин. Пусть. Пушкин зато написал «Медного всадника», упразднив саму категорию. Кто герой поэмы: Евгений? Петр? Петербург?.. Россия? История? Природа?.. Стихия? Судьба? Рок?.. «Рок-батюшка. Судьба-матушка» (Алешковский).
Нет у нас д’Артаньяна.
У Обломова были хорошие данные… такого сломала наша прогрессивная общественность.
Паноптикумы Гоголя, Достоевского: у одного – мертвые души, у другого – уже Бобки.
У Толстого – всё образы, образы… Героя, кроме Анны Карениной, нет. Антигерой не удается (Левин не вышел).
Правда, женщины у нас – герои. Все, включая сюда Веру Павловну. Тут Пушкин успел опередить Грибоедова, Татьяна – Софью.
Мужчины, играя женщин, их п е р е и г р ы в а ю т (театральный факт).
Во Франции эту перверсию преодолели в Жанне д’Арк. Мы пробовали на этом поприще мученицу Зою. И животные у нас – герои. Собаки и лошади. Холстомер, Каштанка, Изумруд, Верный Руслан, Джамиля какая-нибудь. «Какая Джамиля? Про н а с, про н а с надо писать!» – как сказала однажды Л. Я. Гинзбург Б. Я. Бухштабу, тайно «про нас» пописывая.
Крест пропивают, но никак уж не п р о е д а ю т. Сытый голодного не разумеет.
Вот и нет у нас д’Артаньяна…
(В этот момент я опять взглянул в сибирские просторы Германии, одновременно почему-то проверяя, на месте ли крест… он был не на месте. Но я нашел его, порывшись и не успев потерять…
Порвалась цепка на кресте:
Грех тянет вниз, а выя – крепче.
Живу, наглея в простоте,
Все воровство до дна исчерпав.
Пропиться можно до креста,
Продаться можно за пол-литра.
Где темнота, где простота,
Вопрос не выучки, а ритма.
Итога нет – таков итог.
Не подбирай креста другого:
Без Бога – Бог, и с Богом – Бог,
И ты – за пазухой у Бога.)
24 ноября, уже в Гамбурге
По той же причине нет русского детектива.
Литература, осуществленная в жизни, вытесняет воображение и игру как неправду жизни. Герой и сюжет – акт обуздания жизни, после которого и следует понятие цивилизации. (Запись во время обсуждения кандидатов на Пушкинскую премию, присуждаемую русским писателям почему-то в Германии, а не в России. Победителями вышли два героя советской литературы, создавших-таки ГЕРОЯ, отличного от традиции отечественной литературы, – Фазиль Искандер и Олег Волков. Один гибридизировал Дон Кихота и Швейка, другой – лагерного Робинзона.)
Мы не замечаем, как это сделано, а это еще и сделано. Нам не демонстрируются приемы, и мы не говорим «ах!», ибо не можем щегольнуть своей причастностью: как мы это всё, такое сложное, догадались и поняли. Может ли кто-либо похвастаться, что он понял Дюма? Что там понимать, в «Трех мушкетерах»…
Поэзия – это тайна, а занимательность – лишь секрет. Эта дискриминация объяснима лишь тем, что критик пропагандирует лишь то, о чем легче рассуждать. Что пропагандировать то, что и так всем годится? На Дюма не поступает заказ.
В популярности Дюма настолько участвует читатель, что не оставляет места критику. Критику не во что вложиться самому: его взнос не будет отмечен. Критика – это тоже форма оплаты. И расплаты. Когда успех приходит без ее участия.
Не критика, а реклама «Ля Пресс» ставит Александра Дюма в один ряд с Вальтером Скоттом и Рафаэлем; критика же пишет: «Поскребите труды господина Дюма, и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку – пожирает ее прямо с кожурой». Вопиющая неточность сравнения выдает искренность памфлетиста: можно вычислить аудиторию, состоящую из знатоков французской кухни, но нельзя обнаружить адресата, прославленного гурмана, как и Россини, закончившего свою астрономическую эпопею гастрономически: написанием кулинарной книги. Одно из заблуждений среди людей несведущих (как я) и поэтому столь распространенное: что гурманство связано более с изысканностью и смакованием, нежели с обилием и пожиранием. Единственный гурман, с которым мне довелось встретиться (в советской жизни), поразил именно тем, как быстро и жадно поглощал он то, что столь долго и нежно готовил. Природа кухни оказалась романтической: ухаживание и домогание были важнее утоления страсти.