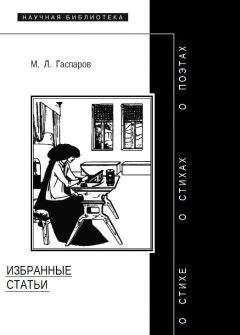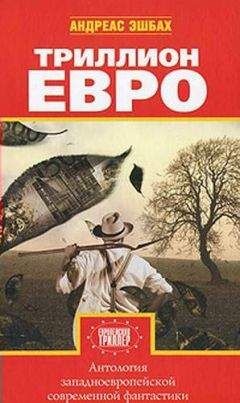Ознакомительная версия.
Пародирует Лосев на современный лад и «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» В. Маяковского, превращая рабочего в композитора, который ездил на БАМ, чтобы сочинить «Сюиту строителей» и приобрести кооперативную квартиру (цикл «Маяковскому»). В отличие от предшественника, выразившего лишь восторги героя по поводу нового жилья («Во — ширина! Высота — во!»), в лосевском тексте сначала описываются кошмары коммунального житья, а уже потом прелести отдельного — без соседских пакостей и гадостей. Но в центре — тоже ванная, с добавкой в виде музыки Вивальди и французского коньяка, и «кафельный сануз» (придумка советских архитекторов — совмещённый туалет с ванной — санузел), и махровое (у Маяковского «мохнатое») и вафельное полотенца. И иронический финал: «Подходящее место для жизни — Советский Союз!» А у Маяковского благодарственный возглас, в котором сливаются авторский голос с голосом персонажа: «Очень правильная / Эта, наша, Советская власть» («наша» выделено запятыми). Ещё саркастичнее в этом же цикле пародия на «Стихи о советском паспорте», переиначенная как «Стихи о молодецком пастыре»: «Глянцевитая харя в костюмчике долларов за 500 / дубликатом бесценного груза из широких штанин / достаёт Евангелие…» и пасёт телестадо, давая советы. А «рекламная саранча» норовит «всучить подороже Благую Весть».
Но ангел-хранитель выключает
телевизор, ворча:
«Можно подумать, в атеизме что-то есть».
Иронизирует Лев Лосев и над самим собой, профессором американского университета, пытающимся объяснить студентам причины гибели Анны Карениной. Кто виноват? Она сама или патриархальный строй? «Муж? Устрица в Английском клубе? / Незрячий паровоз? Фру-Фру?» Или это «воля Азвоздама (узнали толстовский эпиграф? — Л.Б.), что перееханная дама / отправилась не в рай, а в ад»? («Лекция»). А после лекций приходится проверять студенческие работы, среди которых попадаются и такие «шедевры», как «Тургенев любит написать роман Отцы с ребёнками» («Один день Льва Владимировича»). И даже в свободные минуты ему видятся вокруг «водобоязненный бедный Евгений», «Родион во дворе у старухи-профессорши колет дровишки», «оржавевший» Холстомер «оторжал и отправлен в ночное», «итальянские дядьки, Карл Иванычи, Пнины»; и Гераклит трусит вдоль реки, и «охота ему адидасы, обогнавши поток, ещё раз окунуть в ту же влагу» («Открытка из Новой Англии»).
Высокообразованный человек, знаток русской и мировой литературы, Лев Лосев в своём творчестве опасался подражательности: «Что-то чужую я струнку пощипываю, / что-то чужое несу» («Подражание»). Однако, вопреки этим опасениям, он широко обращался к чужим текстам и интертекстуальным связям (об интертекстуальности в русской литературе ХХ в. см.: Жолковский А. «Блуждающие сны». Из истории русского модернизма. М., 1992). Надо сказать, что сквозная цитатность, вплоть до сплошного интертекста, присуща современному постмодернизму. И Лосев сознательно формировал этот стиль в своей поэзии: «ступай себе свою чушь молоть / с кристаллической солью цитат». Но при этом стремился к самобытности.
Своеобразие лосевской цитации состоит, во-первых, в том, что, прибегая к «крупицам» точных цитат, он даёт им новое продолжение: «Кто скачет под бывшей берлинской стеной? / Ездок запоздалый, с ним сын костяной» (у Жуковского «под хладною мглой», «сын молодой»); «Иных уж нет, а я далече (как сзади кто-то там сказал)» — ср. с Пушкиным: «те далече», «Сади некогда сказал»; «вышел Окуджава. / На дорогу. Один. На кремнистый путь», где «звезда со звёздой разговор держала» (см. лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»); «Мысль изречённая есть что-с?» (у Тютчева «есть ложь»); «Мело весь месяц в феврале; / Свеча стояла в шевроле» (у Пастернака «на столе»).
Ту же игру с цитатами наблюдаем и в использовании — то с юмором, то с издёвкой — цитатных обрывков из песен и романсов: «Позабыт, позамучен / с молодых юных лет», «Хас-Булат удалой, / бедна сакля твоя, / бедна сакля моя, / у тебя ни шиша, / у меня ни шиша»; «в столице стены древнего Кремля / подкрашивает утро нежным светом»; «В нашу гавань с похмелюги заходили иногда…»; «Так говорил За- / лотые светят огоньки» (парадоксальное сочетание несовместного — «Так говорил Заратустра» и «Золотые светят огоньки» из советской песни).
Во-вторых, наряду с цитатными «кристаллами», в лосевских стихах масса аллюзий, намёков, рассчитанных на начитанных и догадливых книго- и стихолюбов: «Адмиралтейства шприц» (парафраз пушкинской «адмиралтейской иглы»); «И ни звёзд, ни лун, / ни ветрил, ни руля» (у Лермонтова «без руля и без ветрил»); «Помню родину, русского Бога <…> / и какая сквозит безнадёга / в рабской, смирной Его красоте» (ср. у Тютчева «Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя», «В наготе твоей смиренной»). Но бывают не только завуалированные аллюзии, но и легко узнаваемые реминисценции. Такова, например, в цикле «Из Блока» прямая отсылка к поэме «Двенадцать», где вместо Христа входит в халате Бог, а «белый венчик из роз» заменён «белым розовым венцом».
Он в халате белоснежном,
в белом розовом венце,
с выраженьем безнадежным
на невидимом лице.
Или в стихотворении «В Нью-Йорке, облокотясь о стойку» слышатся отзвуки других блоковских произведений: «Он смотрел от окна в переполненном баре», «Ночь. Реклама аптеки. Река», «и слеза на небритой щеке символиста / отражала желток фонаря» (у Блока «Я сидел у окна в переполненном зале», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «и на жёлтой заре фонари»). А может, «желток» мелькнул из Мандельштама, у которого «к зловещему дёгтю» петербургского декабрьского дня «подмешан желток». Недаром Лосеву так нравилось мандельштамовское сравнение цитаты с цикадой. И такие «цикады» из его поэзии «стрекочут» в лосевских текстах повсеместно: «Вижу я синие дали Тосканы / и по-воронежски водку в стаканы лью» (у Мандельштама «От молодых ещё воронежских холмов / К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане»); «Спой ещё, Александр Похмелыч» («Александр Герцевич», «Александр Сердцевич»), «век-свиновод» (мандельштамовский «век-волкодав»).
Если в выражении «трагический и тенорковый Блок» сразу угадывается ахматовский «трагический тенор эпохи», то следующая «угадайка» только для посвящённых:
Я складывал слова, как бы дрова:
пить, затопить, купить, камин, собака.
Вот так слова и поперёк слова.
Но почему ж так холодно однако?
(«Слова для романса “Слова”»)
А слова эти взяты из последних строк стихотворения Бунина «Одиночество»: «Что ж, камин затоплю, буду пить. / Хорошо бы собаку купить».
Игровой характер носит и лосевский «Цитатник» с его, казалось бы, скорбной темой о расставании души с телом, но выражённой ёрнически и пародийно (на основе пушкинской «Песни о вещем Олеге»): «Как ныне прощается с телом душа, / Проститься, знать, время настало», «Прощай, мой товарищ, мой верный нога», «и ты, мой язык, неразумный хазар, умолкни навеки, окончен базар». Есть тут и волхвы, которых ведут «под уздцы» отроки, и Олег, у которого «испуганно ходит кадык», и князья Игорь и Ольга, и пирующая дружина. И вдруг отголосок Мандельштама: «И конского черепа жалящий взгляд / у вечности что-то ворует» (ср. «У вечности ворует всякий, / А вечность — как морской песок»).
Это и есть третья особенность цитатности Лосева — контаминация, т.е. включение в текст чужих и разных текстовых «осколков»: «Багровый внук, вот твой вишнёвый сад» (намёк на «Детские годы Багрова-внука» Аксакова с перенесением героя в чеховское время). В «Оде на 1937 год» Михаил Михалыч З. ел бутерброд и думал, что «не заросла народная тропа, / напротив, ежедневно прёт толпа / играть и жрать у гробового входа» (симбиоз двух пушкинских цитат «не зарастёт народная тропа», «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть»). А молодой герой в стихотворении «Как труп в пустыне», принимая воинскую присягу, мямлит не свои слова, а в голове его «плясали мысли» и смешивались строчки из «Пророка» Пушкина («жало мудрыя змеи / желал обресть устами») и революционного гимна «Интернационал» («знамена, проклятьем заклеймённые»), но являлся ему не «Шестикрыл», а «самый крупный мелкий бес» да Сатана. И вспомнишь не только Пушкина, но и Ф. Сологуба с его «Мелким бесом» и Библию, а может быть, и Л. Андреева и его роман «Дневник Сатаны».
Поразительную контаминацию, переходящую в центон (текст, сплошь состоящий из цитат), находим в стихотворении «По Баратынскому», написанном за три года до смерти поэта, когда он, уже тяжело больной, признавался, что устал от стихов и хотел бы распрощаться с русской поэзией, и при этом воссоздавал её портрет из «точечных» цитат, составляя центон не из строк, а из отдельных слов.
Ознакомительная версия.