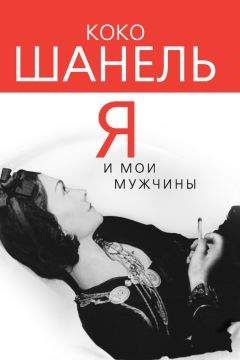Кот и окрестности
В новой книге Александра Гениса, вышедшей в издательстве «Вагриус», собраны три текста, разных по жанру и по стилю: «филологический роман» о Довлатове, очерк о Бродском и маленькая самостоятельная книжка с чудесным медленным названием «Темнота и тишина».
Тексты сошлись вместе, по прихоти автора ли, издателя ли, и у них, никак между собой не связанных, сейчас же возник общий знаменатель.
Конечно, так или иначе, в них речь идет о литературе, о словесности, о слове, но не Слово оказывается объединяющей темой, – это и так понятно, – а идея Другого.
«Прелесть кота не в том, что он красивый или, тем более, полезный, – пишет Генис. – Прелесть его в том, что он Другой.
Только в диалоге с другим мы можем найти себя. Только выйдя за собственные – человеческие пределы».
И далее: «Не только кот для нас, но и мы для него – тайна. Причем вечная тайна – нам не понять друг друга до гроба и за гробом».
Это из «Темноты и тишины», где речь идет не о коте, или не только о коте, но о мхе, облаках, дзэнских садах, Беккете, тени, море, молчании.
В попытке понять Другого, и, через него, самого себя, и написаны последние вещи Александра Гениса. «Книги о других пишут, когда нечего сказать о себе. В данном случае это не так. Я-то как раз ее и пишу, рассчитывая поговорить о себе». К этому разговору о себе и с собой присоединяется и читатель, – молчаливым, нелишним третьим участником.
Для меня из трех персонажей сборника – Довлатов, Бродский и Кот, – самым умонепостигаемым представляется Довлатов. Или можно сказать так: Бродский постигаем, Кот непостигаем и постигнут быть не может, Довлатов же – вот он, казалось бы, весь, лови его, – ан нет, он Другой, совсем другой, он не дается в руки, уходит от расставленных сетей.
Природа довлатовского таланта – и довла-товского успеха – с трудом поддается определению. Писатель он не массовый – не Марини-на, – а успех у него массовый. У него не так уж много безупречных от начала до конца вещей, много слабых, вялых мест, расплывчатая форма; впадая в пафос, он становится плоским, афоризмы его неглубоки да как-то не очень и нужны. «Печаль и страх – реакция на время. Тоска и ужас – реакция на вечность». Ну, в общем, да. Но это ничего не прибавляет к нашему знанию, не меняет угол зрения. Мрачный, мстительный и коварный в жизни, как описывает его Генис, запойный алкоголик, часто, с удовольствием и несправедливо обижавший многих, Довлатов при этом обладал редким обаянием, и его тексты этим обаянием пропитаны. Обаяние же – свойство, которое решительно не поддается никакому анализу, никакому объяснению, своего рода благодать. «Негативные» характеристики – мрачность, мстительность и коварство – не умаляют обаяния, а только подчеркивают: «и вот, несмотря на все это…».
Генис не злорадствует по поводу дурных черт довлатовского характера – он любит Сергея. И не только это. Читатель, Довлатова лично не знавший, с каким-то даже облегчением открывает для себя довлатовское коварство, оно придает нужное измерение его облику, предстающему из довлатовских книг: зачастую слишком «милому», нерешительному, неопределенному. Злые шутки и обидные каламбуры, выведение живых людей – с именами и фамилиями – в книгах, то красное словцо, что дороже уютного, верного товарищества, – примеров Генис приводит множество. Не попрекнуть – это-то проще простого, но попробовать понять, как писатель интегрирует этот оскорбительный блеск в свои книги, как он не может без, не может не, каков механизм уникального писательского дара – одна из задач мемуариста.
Не могу сказать, что после прочтения романа Гениса мне стал понятен Довлатов или ясен секрет его обаяния, но Генис назвал, перечислил и сформулировал какие-то важные вещи, позволившие иначе взглянуть на его героя и на самого автора. Помимо Довлатова, в книге есть окрестности, – друзья, поколение, пейзаж, эпоха. «Довлатов назначил нас поколением», – говорит Валерий Попов. «Сергей стал голосом того поколения, на котором она (советская власть) кончилась», – пишет Генис. Так-то оно, может быть, и так, но Довлатов популярен и среди другого поколения, среди двадцатилетних, советской власти не заставших, но читающих его для «души», ради какого-то тихо льющегося из его прозы света. Казалось бы! Ну какой же свет из Довлатова! Уголовники, лагерная охрана, пьянство, шатание меж двор, бессмысленная жизнь, цепь неудач, нерешительность, вынужденное безделье и расплывчатые мечты. «По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир». Но, может быть, именно приятие, неосуждение этого мира, оттого, что «ад – это мы сами», и делает Довлатова притягательным для молодых, особенно питерских, мальчиков и девочек. Мечтательные, безработные, способные, безвольные, невостребованные жизнью в свои лучшие годы, обделенные уже не советской властью, а нынешней, определения коей не подберу, они читают писателя, который и сам вроде бы такой же, – шляется по тем же улицам, выпивает с кем попало, спит где попало, не решается уехать. Довлатов впрок разрешил им эту жизнь, впрок описал ее, впрок усмехнулся над ней и собой. И чтоб не утонули вечно утопающие, протянул соломинку – юмор. Больше нечем спастись в волнах абсурда. Большие идейные корабли с гудками проходят мимо, не удосуживаясь приостановиться ради слабых, бесполезных и потерянных, довлатовская же соломенная лодочка всех подбирает. Чудесное довлатовское стихотворение приводит Генис:
Жабин был из кулачья,
Подхалим и жадина.
Схоронили у ручья
Николая Жабина.
Мой рассказ на этом весь,
Нечего рассказывать.
Лучше б жил такой, как есть,
Николай Аркадьевич.
«И простит, и пожалеет и о вас, и обо мне», – писал другой поэт по другому поводу.
Генис предлагает свое объяснение тому, что мне всегда казалось недостатком довлатовской прозы, – а я очень люблю прозу Довлатова. «Если в прозе нет фокуса, то она не проза, но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу. Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал картоном свои хрустальные фразы. (…) У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота».
Мне нравится это объяснение – вне зависимости от того, согласна ли я с ним. Больше всего мне нравится фраза «прокладывал картоном свои хрустальные фразы». Впрочем, Генис вообще мастер метафор, которые даются ему настолько легко, – так кажется читателю, – что он склонен ими злоупотреблять. Сам завороженный идеей пустоты, Генис неохотно впускает ее в текст. Он осмыслен, и даже слишком. Тут, возможно, я и не права, – может быть, мой «западный» глаз не улавливает «восточных» пустот, которые автор, искушенный в дзэне, расставил (напустил? вычел?) в подобающих местах. Генис не заготовил картона, в своем «филологическом романе» он прослаивает увлекательный роман о собственной жизни филологией опытного эссеиста. Это умно, это ловко сделано, но, на мой вкус, таинственная пустота необъясненного события дороже остроумного филологического сравнения. «Однажды в Гонконге мне подали морскую тварь, похожую на вошь под микроскопом. Когда ее опустили в кипяток, она стала совершенно прозрачной, что не испортило невидимого обеда. В литературе подобный фокус происходит тогда, когда…» – но читателю моего типа уже неважно, что происходит: завороженное идеей невидимого обеда, воображение предлагает веер вариантов, и тот единственный, что выбран автором, как кажется, обедняет палитру возможностей. Наверно, это происходит оттого, что Генис недооценивает свой талант блестящего рассказчика: в эссеистике он чувствует себя уверенно («Довлатовская книга настояна на Пушкине, как коньяк на рябине»), в художественном нарративе он словно бы тушуется, и напрасно.
«1972 год я встречал по месту тогдашней службы: в пожарном депо Рижского завода микроавтобусов… (…) Мои сотрудники… жили по-своему, и мораль их уходила в таинственные сферы беспредельной терпимости. Старообрядец Разумеев испражнялся, не снимая галифе. Полковник Колосенцев спал с дочкой. Замполит Брусцов не расставался с романом Лациса “Сын рыбака” и вытирался моим полотенцем. Капитан дальнего плавания Строгов играл в шахматы – час в сутки и пил трижды в год, но всё – от клея БФ до тормозной жидкости.
Вот в такой компании я и сел встречать Новый год. С закуской обстояло неопределенно. Сквозь снег пожарные нарвали дикую траву на пустыре и варили ее в казенной кастрюле до тех пор, пока бульон не приобрел цвет зеленки. Потом сняли клеенку с кухонного стола и ссыпали крошки в варево…»
Здесь каждое слово кажется враньем. На художественную выдумку указывают хотя бы аллитерации в пределах одной фразы: Брусцов, Лацис, полотенце. Между тем, это чистая правда.
«Прелесть кота не в том, что он красивый или, тем более, полезный. Прелесть его в том, что он Другой». Мне все больше и больше хочется – о Другом. О других. О том же Генисе.