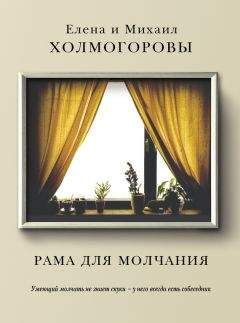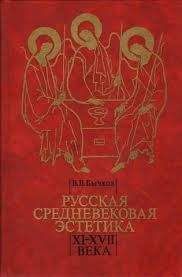Однажды отец рассказал мне, что уже в семидесятых годах был на встрече с каким-то военным психологом, который долго и с пафосом расписывал важность морально-политической подготовки. И когда пришло время вопросов, кто-то спросил: «А то, что вот этим мальчикам надо будет взять оружие и идти убивать, пусть врагов – людей, стрелять в живого, себе подобного человека. Как вы учитываете это в своей работе?» Лектор напрягся, но лишь на миг: «Этот вопрос нами не прорабатывается».
Я знала, что отцу не пришлось убивать. Он мог стать таким же «запыленным молоденьким пехотинцем», это лишь воля случая, это лишь судьба распорядилась иначе. Он мучился не потому, что не убивал, а потому, что не мог пожертвовать собой.
«Дорогие родители! Вот оно, счастье, вот оно, долгожданное наступление! Кончился полугодовой застой – началась пора стремительных передвижений, она потребует от каждого из нас все силы, все мысли, всю энергию. Мы уже маханули за полтораста километров и сейчас у стен братской столицы, но и на этом дело может не кончиться, когда фронт уже вламывается в Германию. Вероятно, через несколько дней – снова дорога, снова счастье, снова ветер в лицо». (21 января 1945 г.)
«Итак, сегодня еще одна дата моей жизни: я пересек польско-германскую границу, где на КПП – щит с крупной надписью «Вот она, преступная Германия!» Признаюсь, это – сильное ощущение. Но каково оно было для тех, кто первыми вошли сюда в феврале!» (16 апреля 1945 г.).
Пафос приближающегося триумфа, торжество общей победы. И на этой волне так естественно стремление к единению!
«Вчера я вступил в кандидаты партии. Приняли единогласно. Отец, я живу и делаю шаг за шагом – без тебя. И таков мой новый шаг. Я постарался взглянуть на весь вопрос из самой глубины того, чему ты учил, чего мне все равно никогда не забыть. Я помню – до войны – наши беседы. Тогда, пожалуй, были мотивы к ужасу, к осуждению. Сейчас я не нашел их в себе. Я сказал себе: «Нет ничего лучшего, ни к чему лучшему не пристать!» Это – так, и без компромисса. И еще: надо любить землю, надо быть земным. Надо шагать в ногу. Сергей» (25 апреля 1945 г.).
Вчитываясь в это письмо, понимаешь, что осторожность и продуманность формулировок – не только от мыслей о военной цензуре, но и от боязни обжечь отца предательством. Ведь проблема «отцов и детей» в конечном итоге всегда упирается в иллюзию молодости о достаточности собственного опыта, непригодности опыта предков и чувство снисходительного превосходства. И в строчках письма аккуратно и в то же время настойчиво дается почувствовать обретенная за три военных года самостоятельность и, более того, преимущество обладания каким-то новым знанием, отцу неведомым. Сквозь призму « нескольких тысяч световых лет», как он обозначит эту временную дистанцию в следующем письме, уже едва различимы « наши беседы», а все « мотивы к ужасу, к осуждению» заслонены и общей бедой, и торжеством победителей.
После Девятого мая в письма все больше вкрадывается растерянность. Война окончена, долг выполнен, но… Жизнь там, в Москве, откуда он уехал почти мальчиком сначала в эвакуацию, а потом – на фронт, в квартире, где по-прежнему раскрытый рояль в комнате дяди и неоконченный холст на мольберте отца, и куда теперь он войдет совсем другим, взрослым, осталась той же. Но не стал ли он ей чужим?
«Дорогой дядя Сеня! У меня два повода написать тебе: оба носят экстраординарный характер. Во-первых, я получил от тебя письмо (от 10 мая, предыдущее было 8 апреля), а во-вторых, я слышал тебя по радио. Это было 23 мая, к вечеру. Впереди была еще целая ночь перевода допросов. Полный мыслями о еще не оконченном сонете из цикла «Другу», я расхаживал во втором этаже по пустым комнатам – и вдруг за три-четыре комнаты, за стеной услышал знакомые звуки бетховенской сонаты. Я почти бегом направился туда и вломился в комнату капитана Стремовского, который – седой, желтый и хмурый – стоял, сопя по привычке посреди комнаты, расстегнув китель. Я откозырнул, извинился и объяснил, что «передают знакомую музыку, и как бы не кто-нибудь из знакомых пианистов ее исполняет». И, подойдя к приемнику, стал вслушиваться.
Я так и не смог определить, кто играет: ты или не ты. Или я уже утерял ощущение твоего стиля, или ты изменил, сдвинул его за эти три года. Не мог понять, кто играет, пока дикторша не произнесла: «Мы передавали концерт из произведений Бетховена. Исполнял засл. деятель искусств профессор Фейнберг»… На этом происшествии я еще раз проверил себя и еще раз почувствовал, насколько я глубоко ушел в свою действительность, в свои будни. Даже слыша звуки, исторгаемые твоими пальцами, я не ощутил их реальность. Они были из такого далека, что не умещались в сознании. До них было несколько тысяч световых лет. Я не говорю о том блаженном ощущении прочности, с которым я живу, зная, что у вас, на Миусах – все благополучно!» (29 мая 1945 г.).
Сонет из цикла «Другу» Десятый класс. Кончался школьный срок.
Миусский парк. Знакомый дом под тучей.
Канун войны… А нам казалось лучше
Бродить вдали, в краю певучих строк.
Наш тесный мир! Переступив порог,
Мы были в нем огромнее и чутче:
О звездной сфере нам поведал Тютчев,
И радугами улыбался Блок.
А вечера? А «Моцарт и Сальери»?..
А книжных полок тусклые леса,
И мягкий свет, и запертые двери,
И мы вдвоем?.. А наши голоса?..
О если б мог я – позабыв потери —
Туда вернуться – хоть на полчаса!
Потери никогда не бывают забыты. А возвращение, как ни страшись, неумолимо приблизилось.
«Дорогие родители! Сообщаю вам, что вчера, 25 октября, я демобилизован. Мне выданы все документы, продукты на дорогу, воинское требование на проезд по железной дороге.
Отец со своей всегдашней ортодоксальностью оказывается в конце концов прав в своих рассуждениях о том, что «ваш мир», заслоненный миром пяти чувств – бывает слишком неконкретным для меня. Ведь только этим и объяснить, что, развернув лист газеты с Указом, я заявил тотчас же: «Нет-нет, что касается меня, то я еще хочу служить – год, самое меньшее». И в эту минуту я не допускал ни малейшего сомнения в том, что для меня это – правильно, умно, честно и выгодно для меня, для моего развития, моей деятельности, моей поэзии.
Пусть этот случай станет мне примером того, как не нужно решать серьезные вопросы своей жизни… Я забыл самое главное: какое огромное и долгожданное счастье ждет меня! Беседы с отцом, наши прогулки по таинственным переулкам, наша мастерская, где он будет писать, поминутно пятясь, отходя от картины с палитрой и кистями, а я буду вслух читать ему Овидия или Достоевского!.. К чему мне не моя жизнь, когда так четко определилась моя жизнь! К чему мне чужие люди, когда живы, ждут меня и любят мои люди!» (26 октября 1945 г.).
Все встает на свои места. Осознание реальности приходит постепенно и очень мучительно. Чего стоит одно признание: « Я забыл самое главное».
Наверное, у каждого так бывает даже после недолгой отлучки: входишь – и в первую секунду не узнаешь дома – все было не так. И почему-то всегда комнаты кажутся тесными. Представляю отца, в шинели, с фанерным чемоданом переступившего порог квартиры на 3-й Миусской, где прошли и первые годы моей жизни, как он не узнал своего отражения в огромном, до потолка старинном зеркале, властвовавшем в передней…
В череде непрерывно и малоосмысленно меняющихся наших светских праздников День Победы – единственный вроде бы стоит незыблемо и отмечается даже в «некруглые» годы. Пока. А я теперь, наверное, лучше понимаю, почему именно Девятое мая для меня день памяти отца.
Хотя – «…тот ничего не знает о войне».
Михаил Холмогоров Меня выгнали с Колымы
«Не изготавливал с учащимися наглядных пособий». Это, как ни смешно, самое страшное обвинение, на основании которого я с позором досрочно был выдворен с Колымы в столицу нашей родины Москву. Смех смехом, но Хрущев вздумал выдавать дипломы выпускникам вузов только после года работы по распределению, школьная директриса всячески шантажировала меня этим и в конце концов выдала уморительную отрицательную характеристику. Когда я вернулся в Москву, эту дурь уже отменили, но в деканате хорошо над ней поржали.
Я шел на комиссию по распределению (совершенно забыл, где, в какой аудитории она проходила, кто был ее членом), вооруженный справкой о трехлетнем сыне, полагал получить свободное трудоустройство, но острый приступ любопытства и неудавшейся тогдашней влюбленности дернул за язык, и я брякнул: Магадан. Никакого представления о том, куда суюсь, не было. Но очень хотелось прокатиться за государственный счет по Транссибирской магистрали, а дальше – на пароходе.
Я уезжал 4 августа 1965 года. Мой дядя Коля, которого в войну отправили не на фронт, а на Дальний Восток на случай нападения японцев, напутствовал:
– Под Владивостоком будет станция Ружино. Такая дыра – стишок о ней ходил: