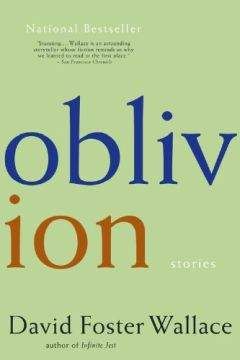‘(∀x) ((Fx → ~ (Lx)) & (Lx → ~ (Fx))) & ~ ((∃x) (~ (Fx) & ~ (Lx))’),
то есть, другими словами, что каждый день своей жизни мы тратим на службу тому или иному из этих хозяев, и «Нельзя служить двум господам» — снова Библия — и что одна из худших проблем концепции соревновательной, ориентированной на достижения маскулинности, которую Америка якобы прошивает в мужчинах, в том, что так вызывалось более-менее константное состояние страха, а любовь, в свою очередь, стремилась к нулю. В смысле то, что заменяло у американских мужчин любовь, обычно было лишь нуждой в определенном отношении, то есть современные мужчины так постоянно боятся «не подходить принятой мерке» (слова доктора Джи, с очевидно незапланированным каламбуром), что им приходится тратить все свое время на «валидность» маскулинности (что так же оказывается практически термином из формальной логики), дабы снизить собственную неуверенность, от чего искренняя любовь стремится к нулю. Хотя казалось немного упрощенным видеть такой страх исключительно как мужскую проблему (посмотрите как-нибудь на девушку на весах), выяснилось, что доктор Густафсон со своей концепцией двух господ был недалек от истины — хотя и не в том смысле, как он, еще живой и запутавшийся в проблеме собственной истинной личности, считал — и даже когда я подыгрывал, притворяясь, что оспариваю или не вполне понимаю, к чему он ведет, благодаря этой идее меня вдруг озарило, что, возможно, корнем моей проблемы была не фальшивость, но лежащая в самой основе неспособность по-настоящему любить, даже искренне любить приемных родителей, или Ферн, или Мелиссу Беттс, или Джинджер Мэнли из школы Аврора Вест из 1979, о которой я часто думал как о единственной девушке, которую я истинно любил, хотя идея-фикс доктора Джи о том, что промывка мозгов мужчин в итоге приравнивала любовь к достижению или завоеванию, тут тоже играла свою роль. Простая истина заключалась в том, что Джинджер Мэнли была первой девушкой, с которой я впервые прошел весь путь до конца, и большинство моих нежных чувств на самом деле были лишь ностальгией по ощущению необъятной космической проверки, которое я ощутил, когда она наконец позволила снять ее джинсы и поместить мое так называемое «мужское достоинство» в нее, и т. д. Нет же большего клише, чем потерять девственность и позже обрести рестроспективную нежность к участвовавшей в этом девушке. Или что сказала Беверли-Элизабет Слейн, научный сотрудник, с которой я иногда встречался после работы еще в бытность медиа байером и с которой до самого конца у меня был неразрешимый конфликт, о чем я, кажется, никогда не рассказывал доктору Джи из-за своей фальшивости, вероятно потому, что она попала почти что в яблочко. До самого разрыва она сравнивала меня с каким-то ультра-дорогим новейшим медицинским или диагностическим прибором, который может за один быстрый скан распознать в тебе больше, чем ты сам когда-либо о себе знал — но прибору ты неинтересен, для него ты лишь последовательность процессов и кодов. Что бы машина в тебе не нашла, это для нее ничего не значит. Даже если этот прибор действительно хорош. У Беверли был жуткий характер и серьезная огневая мощь, такую не захочется иметь во врагах. Она сказала, что никогда не чувствовала взгляда более проникающего, анализирующего, и в то же время совершенно безразличного, будто она была пазлом или проблемой, которую я решал. Она сказала, что благодаря мне она вживую почувствовала разницу между проникнуть и познать versus проникнуть и просто изнасиловать — незачем говорить, благодарность та была саркастической. Кое-что из этих слов было обусловлено ее натурой — она считала, что нельзя закончить отношения и не сжечь при этом все мосты и высказать все накипевшее, причем так разрушительно, чтобы не осталось ни малейшей возможности снова сблизиться для ее преследования или чтобы не дать ей двигаться дальше. Но тем не менее ее слова запали мне в память, я так и не забыл, что она написала в том письме.
Даже если быть фальшивкой и быть неспособным к любви значит одно и то же (возможность, которую доктор Густафсон, кажется, никогда не допускал, как бы я ему на нее не указывал), быть неспособным к любви было, по крайней мере, новой моделью или линзами, с помощью которых можно было взглянуть на проблему, плюс поначалу это казалось перспективным способом борьбы с парадоксом фальшивости в смысле сокращения ненависти к себе, которая усиливала страх и последующий порыв манипулировать людьми, чтобы те дали мне то самое одобрение, в котором я отказывал себе сам. (Термин доктора Джи для одобрения — «валидность»). Этот период был практически моим зенитом в психоанализе, и несколько недель (в течение пары из которых я на самом деле совсем не виделся с доктором Густафсоном, поскольку ему пришлось лечь в больницу из-за какого-то осложнения, а когда он вернулся, казалось, что он потерял не только вес, но и какую-то существенную часть общей массы, и больше не казался слишком большим для старого офисного кресла, которое хоть еще и скрипело, но уже не так громко, плюс большая часть беспорядка и бумаг скрылись в несколько коричневых картонных коробок для документов у стены под двумя печальными принтами, и когда я вернулся его повидать, почему-то именно отсутствие мусора было особенно тревожно и печально) я действительно впервые с уже давней истории с самообманом в эксперименте с Нейпервилльской Церковью Пылающего Меча Избавителя чувствовал проблески настоящей надежды. И все же в то же время именно эти недели более-менее привели меня к решению покончить жизнь самоубийством, хотя мне хочется упростить и линеезировать большую часть внутренних мучений, дабы передать тебе то, что случилось. Иначе пришлось бы перечислять едва ли не вечность, об этом мы уже говорили. Не то чтобы слова или человеческий язык теряют всякую ценность или значение после смерти, кстати сказать. Скорее свой специфический пошаговый темпоральный порядок. Или нет. Трудно объяснить. Если перейти в плоскость логики, что-то, выражаемое словами, еще будет иметь ту же кардинальность, но не ту же ординальность. Другими словами, еще существуют всякие разные слова, но уже не стоит вопроса, какое из них идет первым. Или можно сказать, что это больше не серии слов, но скорее некий предел, к которому эти серии стремятся. Трудно не прибегнуть к логическим терминам, так как они наиболее абстрактны и универсальны. То есть у слов нет коннотаций, в них не чувствуешь ничего лишнего. Или, например, представь, что все, что кто-либо когда-либо на Земле сказал или даже подумал, сжимается и взрывается в один огромный, объединенный, мгновенный звук — хотя «мгновенный» опять же немного запутывает, ведь он подразумевает другие мгновения до и после, а все обстоит не так. Скорее как внезапная внутренняя вспышка, когда видишь или осознаешь что-то — внезапная вспышка, или что-то вроде прозрения или проницания. Не то чтобы она происходит так быстро, что процесс нельзя зафиксировать и перевести в английский, но, вернее, она происходит в измерении, где даже нет известного нам времени, или времени нет вовсе, эта вспышка — все, что знаешь, что есть до и после, и в это «после» ты уже другой. Не знаю, есть в этом хоть капля смысла. Я просто пытаюсь подать это с разных углов, а так говорю об одном и том же. Или скорее это похоже на определенную конфигурацию света, нежели чем на сумму слов или последовательность звуков. Так больше похоже на правду. Или как доказательство теоремы — ведь доказательство истинно, когда истинно везде и всегда, а не только тогда, когда его произносишь. Но похоже, лучше всего для описания подходит логический символизм, так как логика совершенно абстрактная и внешняя по отношению к тому, что мы привыкли считать временем. Ближе не подобраться. Вот почему из-за логических парадоксов сходят с ума. Многие великие логики в итоге кончали жизнь самоубийством, это исторический факт.
И помните, что эта вспышка может произойти где угодно, когда угодно.
Вот, кстати, простой парадокс Берри, если вам нужен пример, почему логики с невероятной огневой мощью отдают всю жизнь, чтобы решать подобные головоломки, и в конце концов все равно бьются головой о стену. Этот связан с большими числами — то есть действительно большими, больше триллиона, в десять триллионов раз больше триллиона, вот какие. Когда туда доходишь, такие большие числа даже словами описывать долго. «Один триллион четыреста три миллиарда в триллионной степени» занимает, например, двадцать один слог. Ну ты понял. Так, а теперь в этих огромных, космического масштаба числах представь наименьшее число, которое нельзя описать меньше, чем за двадцать шесть слогов. Парадокс в том, что «наименьшее число, которое нельзя описать меньше, чем за двадцать шесть слогов», уже, конечно, само по себе описание этого числа, и имеет только двадцать пять слогов, что, конечно, меньше двадцати шести. Ну и что теперь делать?