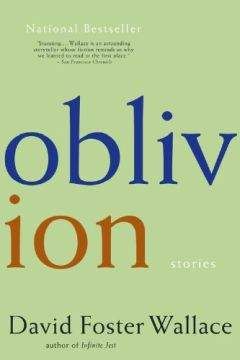Также то, что привело к самоубийству в плане причинности, случилось где-то на третью или четвертую неделю приема доктора Джи после возвращения с госпитализации. Хотя не буду притворяться, что этот конкретный инцидент не покажется большинству абсурдным или даже в своем роде безвкусным. Дело в том, что однажды поздно ночью в августе после возвращения доктора Джи, когда я не мог заснуть (что часто случалось после кокаинового периода) и сидел со стаканом молока или чем-то еще и смотрел телевизор, перещелкивая наугад пультом разные кабельные станции, как делают многие, когда поздно, я случайно попал на старую серию «Чирс», из последних сезонов, на момент, где персонаж-психоаналитик, Фрейзер (который потом получил собственный сериал), и Лилит, его невеста и тоже психоаналитик, как раз входят в подвальный паб, и Фрейзер спрашивает ее, как сегодня работа в офисе, и Лилит отвечает: «Если ко мне придет хоть еще один яппи и начнет ныть, что не может любить, меня стошнит». Реакция зала в студии на эту шутку была ошеломляюще бурной, а это указывало, что они — а также, демографически обобщая, и вся национальная телеаудитория — узнали, что за клише и мелодраматическое нытье этот концепт «неспособности любить». И там, на кухне, я вдруг осознал, что вновь пытаюсь обмануть себя, на этот раз думая, будто это более правдивый или перспективный способ решить проблему фальшивости — и, в целом, что я обманывал себя и почти поверил, будто у старого бедного доктора Густафсона есть хоть что-то в интеллектуальном арсенале, что может мне как-то помочь, хотя на самом деле я продолжал с ним видеться частично из-за жалости и частично, чтобы можно было притвориться для себя, будто я делаю шаги к аутентичности, тогда как все, что я делал — издевался над смертельно больной оболочкой человека и наслаждался своим превосходством, потому что анализировал его психологическую природу гораздо точнее, чем он анализировал мою — вспышка осознания всего этого произошла в тот же момент, когда бурный смех аудитории показал, что почти каждый в Соединенных Штатах видел насквозь жалобу о неаутентичности уже так давно, сколько лет этой серии — все это вспыхнуло в голове в миниатюрный интервал, когда я еще не понял, что именно смотрю, и не вспомнил, кто вообще такие персонажи Фрейзера и Лилит, то есть максимум где-то полсекунды, но это меня более-менее уничтожило, и других подходящих слов я не найду: как будто любую надежду выбраться из ловушки, которую я сам для себя сделал, сбили на подлете или осмеяли на сцене, словно я был одним из комических типажей, которые всегда служат поводом для шуток и никогда этих шуток не понимают — и в итоге я лег, как никогда чувствуя себя фальшивым, затуманенным, безнадежным и полным презрения к себе, и именно на следующее утро, проснувшись, я решил убить себя и закончить этот фарс. (Как ты вероятно помнишь, «Чирс» был невероятно популярным сериалом, и даже в синдикации[10] рейтинги были так высоки, что если местный рекламодатель хотел купить время в его слотах, оно стоило так много, что приходилось выстраивать целую стратегию насчет этих слотов). Я сознательно сжимаю большую часть того, что произошло в эту ночь с моей психикой, все различные осознания и заключения, к которым я пришел, пока не мог уснуть или даже двинуться (сами по себе шутка или смех зрителей, разумеется, не могут послужить причиной для суицида) — хотя для тебя, могу представить, все это вовсе не кажется сколько-нибудь сжатым, ты-то думаешь: вот этот парень все трындит и трындит, и когда уже он дойдет до момента, когда убивает себя и объясняет факт, как он сидит тут рядом со мной в этом достижении современного автомобилестроения, если умер в 1991. На что я, по сути, решился, как только проснулся. Все, пора кончать спектакль.
После завтрака я позвонил на работу и отпросился по болезни, остался дома на весь день наедине с собой. Я знал, что если рядом будет кто-то еще, я тут же окунусь в фальшь. Я решил принять побольше Бенадрила и, как только стану сонным и расслабленным, разогнать машину на полную на проселке в западном пригороде и врезаться точно в бетонную опору моста. От Бенадрила у меня туман в голове и хочется спать, всегда так было. Большую часть утра я потратил на письмо адвокату и бухгалтеру-C.P.A., а также на короткие записки главе креативного и управляющему партнеру, который меня изначально и устроил в Самьети и Чейн. Наша креативная группа находилась в разгаре очень щекотливых приготовлений к кампании, и я хотел извиниться, что оставляю их на произвол судьбы. Конечно, мне было не так уж и жаль — Самьети и Чейн был балетом фальши, а уж я стоял в его эпицентре. Записка, вероятно, нужна была затем, чтобы действительно важные люди в S. & C. были склонны вспоминать меня как достойного, добросовестного парня, который оказался немного чересчур чувствительным и одолеваемым внутренними демонами — «Почти слишком хорош для этого мира», вот о каких словах после объявления печальных новостей я не мог не фантазировать. Я не оставил записки для доктора Густафсона. Ему хватало своих проблем, и я знал, что просто зря убью много времени на записку, где буду стараться казаться честным, но при этом лишь танцевать вокруг правды, которая заключалась в том, что он подавленный гомосекуалист или андрогин и не имел на самом деле права заставлять пациентов позволять ему проецировать на них свои проблемы, и что правда в том, что он сделает себе и всем остальным большую услугу, если просто пойдет в Гарфилд Парк и отсосет кому-нибудь в кустах и решит для себя, нравится ему или нет, и что я был полной фальшивкой, потому что продолжал наезжать к нему в Ривер Форест повидаться и валять его, как кошачью игрушку, убеждая себя, что в этом был какой-то антифальшивый смысл. (А все это, разумеется, даже если бы кто-то умирал от рака толстой кишки прямо на глазах, никто бы не смог высказать в лицо, ведь определенные истины вполне могут уничтожить — а у кого есть такое право?)
Я потратил почти два часа до принятия первой дозы Бенадрила, составляя от руки письмо сестре Ферн. В нем я извинялся за ту боль, которую может причинить мое самоубийство и фальшивость и/или неспособность любить, которые меня к этому привели, ей и отчиму (который был еще жив и сейчас проживал в округе Мэрин, Калифорния, где преподавал на полставки и участвовал в социальной работе с бездомными округа Мэрин). Также я воспользовался случаем письма и всей связанной с ним своеобразной безотлагательностью в стиле «последней воли», чтобы оправдать извинения перед Ферн как за манипулирование приемными родителями, из-за чего они поверили, что она солгала о той старинной стеклянной вазе в 1967, так и за полдюжины других случаев и недоброжелательных или фальшивых поступков, которые, как я знал, причинили ей боль и из-за которых я себя с тех пор плохо чувствовал, но никогда не видел возможности открыться ей или выразить искренние сожаления. (Оказалось, что есть темы, которые можно обсудить в предсмертной записке, но в любом другом дискурсе они слишком причудливы). Один пример подобного инцидента относится к середине 70-х, когда Ферн, проходя пубертатный период, перенесла некоторые физические изменения, из-за которых год или два выглядела полноватой — не толстой, но с широкими бедрами, грудастой и как бы куда шире, чем была в детстве — и конечно, она по этому поводу была очень, очень чувствительна (пубертатность, очевидно, также время ужасно яркого самосознания и трепетного отношения к образу тела), настолько, что приемным родителям стоило больших трудов не говорить ни слова о ширине Ферн или даже когда-либо упоминать темы, связанные с питанием, диетой, физическими упражнениями и т. д. И я со своей стороны никогда об этом тоже ничего не говорил, не прямо, но перепробовал всевозможные очень тонкие и косвенные варианты мучений Ферн так, что родители ничего не замечали и меня нельзя было бы обвинить так, чтобы в ответ я не огляделся бы с шокированным, скептическим выражением лица, будто понятия не имею, о чем это она говорит: например, быстро поднять бровь, когда наши взгляды встречались, если она просила добавку за ужином, или быстрое и тихое «Ты уверена, что в это влезешь?», когда она возвращалась из магазина с новой юбкой. Тот случай, что я помню живее всего, произошел в коридоре второго этажа в нашем доме, в Авроре, который был трехэтажным (считая подвал), но не особенно просторным и большим, то есть тощая трех-этажерка, что всегда теснятся вдоль жилых улиц в Нейвервилле и Авроре. Коридор второго этажа, проходивший между комнатой Ферн и лестничной площадкой с одной стороны и моей комнатой и ванной с другой, был весь заставленный и довольно узкий, но вовсе не настолько узкий, как я притворялся, когда бы мы с Ферн там ни проходили, прижимаясь к стене коридора, раскинув руки и прищуриваясь, как будто едва хватало места, чтобы кто-то ее невероятных размеров мог протиснуться, и она никогда ничего не говорила и даже не смотрела на меня, когда я так делал, а просто проходила мимо в ванную и закрывала дверь. Но я знал, что ей обидно. Немного позже она вошла в подростковый период, когда почти ничего не ела, курила сигареты и жевала несколько пачек жвачки в день, слишком ярко красилась и некоторое время она была такой худой, что казалась даже угловатой и немного смахивала на насекомое (хотя, конечно, вслух я этого не говорил), и что однажды я, через замочную скважину в спальне, подслушал короткую беседу, в которой мачеха сказала, что волнуется, потому что ей кажется, будто у Ферн задержка, потому что она слишком мало весит, и обсудила с отчимом возможность отвести ее показаться какому-нибудь специалисту. Этот период прошел сам по себе, но в письме я писал Ферн, что навсегда запомнил этот и некоторые другие определенные периоды, когда был с ней жесток или хотел обидеть, и что очень сожалею, хотя потом добавил, что не хочу показаться эгоистом — как будто простое извинение сотрет всю боль, что я ей причинял, пока мы взрослели. С другой стороны, я также уверил ее, что вовсе не носил в себе все эти годы чрезмерное чувство вины и не раздуваю эти случаи сверх меры. Это вовсе не меняющие жизнь травмы, и во многом они, возможно, были лишь типичными жестокостями, которые дети, как правило, проявляют друг к другу при взрослении. Также я убедил ее, что ни эти инциденты, ни мое в них раскаяние не связано с самоубийством. Я просто сказал, не углубляясь в такие детали, что предоставил сейчас тебе (потому что, конечно, цель письма была другой), что убиваю себя потому, что был до мозга костей фальшивым человеком, которому не хватило характера или огневой мощи найти, как остановиться, даже когда осознал фальшивость и ужасную дань, что она взимала (я ничего не писал о разнообразных осознаниях или парадоксах, да и зачем?) Я также вставил, что есть большая вероятность, что, в конце концов, я был не чем иным, как очередным прожигающим жизнь яппи, который не может любить, и что я нашел эту банальность невыносимой, в основном потому, что был, очевидно, настолько неглубоким и неуверенным в себе, что у меня была патологическая необходимость постоянно видеть себя каким-то исключительным или выдающимся. Не вдаваясь в объяснения и споры, я также написал Ферн, что если ее начальной реакцией на эти причины самоубийства будет мысль, что я был слишком, слишком суров к себе, то ей нужно знать, что я уже предугадал, что скорее всего именно эту реакцию в ней и пробудит письмо, и, вероятно, нарочно скомпоновал его так, чтобы как минимум частично натолкнуть именно на эту реакцию, точно так же, как всю жизнь я часто говорил и делал нечто, задуманное натолкнуть определенных людей на мысль, будто я неподдельно выдающийся человек, чьи личностные стандарты настолько высоки, что он слишком суров к себе, а это в свою очередь делало меня привлекательно скромным и неснобом и послужило важной причиной популярности среди стольких людей в разные времена моей жизни — что Беверли-Элизабет Слейн окрестила «талантом к заискиванию» — но, тем не менее, было с самого начала просчитанным и фальшивым. Я также написал Ферн, что очень ее люблю, и попросил передать от меня те же чувства в округ Мэрин.