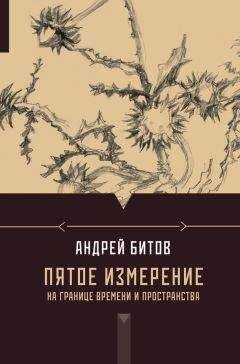Мы же в основном писали прозу. Олег заверил нас, что как раз пишет роман. Мы ухмыльнулись: на роман у нас еще никто не замахивался. На вопрос, когда же он его закончит, отвечал, что каждому, взявшему хотя бы раз перо в руки, нужно тут же установить памятник. (Чем дело и завершилось: этого отпетого бомжа и гонимого поэта первым отпели 1 мая в только что заново открытой Конюшенной церкви, где до него из поэтов отпевали только Пушкина, а вскоре и мемориальную доску навесили на дом, в котором он погибал.) Я могу датировать его «Летний день», повесть о жизни детского лагеря, публикацией «Одного дня Ивана Денисовича», декабрем 1962-го. Эти две повести были прочитаны мною одновременно. В чем-то они были даже схожи, ребенок и зэк, сравнимы по непомерности страдания. Ребенок был ближе мне по невыразимости опыта: будто совмещение «Записок сумасшедшего» с чувственностью фламандской живописи – торжество реальности над реализмом (не говоря уж о соцреализме)… как жаль, что Олег бросил рисовать!
Две несравненных, но и несравнимых повести! Одна осталась для меня событием общественным, другая поразила даже больше как событие художественное: такого «Детства» не написал никто! Ребенок в нем был не маленький герой, а большая личность. Одной была суждена мировая слава (еще впереди плыл невидимый в тумане недалекого будущего океанический «Архипелаг ГУЛАГ», расколовший айсберг советской системы); другая была утрачена, найдена лишь после смерти автора и опубликована в малотиражном питерском издании, то есть до сих пор мало кому известна.
Прав был Олежка Григорьев насчет памятника!
Вербное
Далеко за пределы ума
Разбредается ночью бессонница:
То заброшенный дом, то тюрьма,
А то мышка за кошкою гонится…
Нелегко это вместе собрать!
Но, возможно, в тюремном окошке
Видит брошенный дом мой собрат
И завидует мышке и кошке.
До чего же картина проста,
Как и тот, что за нею томится…
Но найдется из тысяч, из ста,
Кому эта картинка приснится.
Ну, и как после этого спать?
Как его отпустить из темницы?
На охранника, что ли, напасть,
Чем марать по-пустому страницы…
Или слушать внимательно дождь,
Потому что в швейцарском народе,
Под чьей крышей ты скрытно живешь,
Их Христос воскресает и бродит
Под дождем… ну, а мы подождем.
Через семь лет иль через неделю
Вместе с узником срок доживем
И обратно в Россию уедем.
И у нас будет солнце сверкать,
И у нас светлый Праздник настанет.
Хорошо про себя твердо знать,
Что воскреснет Он и не обманет.
Я писал этот, свой собственный Страстной цикл день за днем по всем дням недели в деревне Лорен неподалеку от Цюриха, переживая все дни на неделю раньше, чем в православии. Все и началось с этого неожиданного сна на их Вербное воскресенье.
Я не суеверен и не склонен преувеличивать свои поэтические возможности, однако удивление мое было велико, когда мне сказали, что в тридцати километрах от нас находится городская тюрьма, где ждет очередного пересмотра дела знаменитый осетин, перерезавший перочинным ножичком горло диспетчеру, по вине которого погибла его семья.
Моя неделя прошла, и я улетал как раз в нашу Пасху, а ему оставалось сидеть еще семь лет. Осетины народ православный, и, уточнив имя героя, я посвятил это стихотворение при публикации Виталию Колоеву. Вскоре даже швейцарцы поступились своими принципами и выпустили его досрочно.
В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА[50] в Москве состоялась четырехдневная научная конференция «Постмодернизм и мы». Причем в стенах Литературного института им. Горького. Это примечательное и даже замечательное событие не могло не навести меня на грустные мысли о возрасте.
Конференция была очень представительна, весь цвет современных авангардных групп и течений (в том числе авторы «Соло»), переполненный зал, молодые люди, просвещенные лица… Как приятно видеть не морды, а лица, не искаженные агрессией или тщеславием посвященности, разглаженные знанием предмета и чувством собственного достоинства! Что-то, однако, и все-таки, и уже, произошло, слава богу. «Андеграунд» собирается не в подполье, и вызов сам по себе уже ничего не стоит. Предъяви текст…
Зачем я туда зашел?.. Здесь меня уже не было. Я чувствовал себя почти Бабаевским. Здесь не было нас, здесь не было моих, здесь были все свои.
С радостью отыскал я в зале Сапгира и Холина, они и сейчас сидели рядом, как тридцать лет назад. Но показалось, что уселись они рядом не только как старые соратники, но и с испугу, чтобы держаться друг за друга: вокруг было подавляющее большинство.
А где же ленинградцы? Мелькнул Драгомощенко, в программке была заявлена Лена Шварц…
Ленинградцев опять не было.
Нас и тогда, тридцать пять лет тому, не было. И тогда все было в Москве.
Но для самих себя мы еще как были!
Голявкин.
Еремин, Уфлянд, Виноградов.
Найман, Бобышев, Рейн (и примкнувший к ним Бродский).
Горбовский, Кушнер, Яша Виньковецкий, Тарутин, Леня Агеев, Лена Кумпан, Лида Гладкая…
Сережа Вольф.
Соснора.
Володя Губин, Марамзин, Ефимов, Боря Вахтин…
Рид Грачев, Генрих Шеф, Майя Данини, Олег Базунов…
Вадик Федосеенко, Инга Петкевич, Валерий Попов…
Олег Григорьев.
Какие имена! Они ласкают мне ухо.
У тусовки есть один закон: есть те, кто на нее пришел. А тот, кто не пришел, того нет.
Впрочем, тогда не было такого слова «тусовка».
Разница возраста в три года казалась пропастью, как разница в поколение.
Абсолютное непризнание друг друга не было враждой.
По национальному признаку люди тогда вообще не разделялись.
Кроме Питера, вообще нигде не писали.
И до нас никто не писал.
Впрочем, про обэриутов еще никто не знал.
У Сережи Вольфа была книжка Заболоцкого «Столбцы». Но он ее никому не давал.
Песня «Когда качаются фонарики ночные…» была написана Глебом Горбовским в 1953 году.
А в 1953-м вообще еще никто нигде ничего не писал.
Обозревая период 1956–1964 годов, я вижу тоже не морды, а лица. Помоложе этих, что набили сейчас этот легальный зал. Попроще, почище, повосторженней. Понеобразованней, конечно. Но тоже еще не злые. Эти, быть может, уже не злые (потому что неприлично), а мы были еще не. Потом отчасти стали. Зала у нас не было. Все больше прогулки вдвоем по Петербургу. Несколько помногочисленней сессии – дни рождения, Новые года и просто так – на кухнях и в коммуналках. Хороший зал нам отвели один раз, не хуже, чем в Литинституте, для суда над Бродским. Здесь, на суде над нашим младшим товарищем, можно было встретить представителей всех противоборствующих групп.
Но это уже было время распада групп. Не заметили, как все произошло. Вдруг ни с того ни с сего перессорились. Переобъединились. Но это уже были не группы, а дружбы.
В тот период появление на небосклоне славы чуждых имен Евтушенко, Вознесенского, Аксенова лишь обсуждалось и осуждалось, без придания им значения. Они меркли в лучах собственной славы. Их печатали, нас не печатали – какое может быть сравнение! Вот если бы напечатали нас, то все бы и узнали…
Потом прошло пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. Мы умерли, сошли с ума, уехали.
НАС – так никто и не узнал.
Мне всегда это казалось чудовищно несправедливым. Теперь уже то ли нет сил, то ли все равно. Все равно никому ничего не докажешь. Поезд ушел.
В 1956–1964-м мы еще собирали сборники. Тот или иной «Петрополь» ходил по рукам, а потом в руках же и рассыпался. Раз в год в «Советском писателе» с муками издавался альманах «Молодой Ленинград», но не приносил нам мировой и даже всесоюзной славы. (Мне казалось, что он тогда и перестал выходить, когда мы поразошлись. Оказалось, он выходил вплоть до этого года. Лишь в этом году он уже не выйдет, что наводит на мысль, что наконец-то он стал не один, то есть стал не нужен.)
С 1964-го по 1991-й, когда мы перестали собирать рукописные сборники, меня время от времени подмывало все-таки его собрать. Представительный! На память о НАС! В 1973-м, с образованием ВААП, я даже явился туда с предложением его издать «на заграницу». Меня недопоняли. Сил моих не было. В 1979 году намерение это было перебито «Метрополем» (и опять почти без ленинградцев)… С 1985-го пошли новые возможности.
И вот только сейчас, в 1991-м… И я не могу его собрать.
Во-первых, технически сложно. Все все-таки так или иначе напечатались. Потом некогда. Некогда собирать.
Но и не у кого. Где кого найдешь…
Но и контекста не стало. Он вымер уже и во мне.
Этот сборничек представляет уже лишь мою память. То, что она за меня отобрала. Зато в нем то и так, как никто, кроме НАС, не знал и до сих пор не знает.
В этом сборничке нет ни конкуренции, ни представительства.