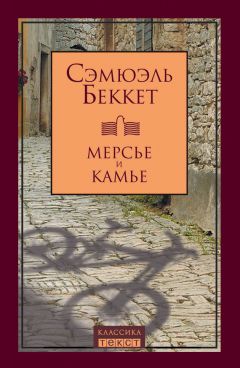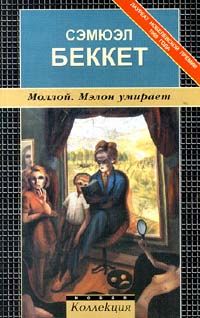– Он же заразился невесть чем гораздо раньше, чем дошел до нас, – сказал Камье. – Не глупи, Мерсье. Подумай хоть о миазмах, через которые ему пришлось пробираться.
– Мне сегодня ночью снился странный сон, – сказал Мерсье. – Сейчас он мне вспомнился.
– Итак, – сказал Камье, – речь идет о неизвестных предметах, которые не только совершенно необязательно лежат в рюкзаке, но, возможно, и не влезут ни в один рюкзак на свете, – да хоть велосипед, например, или зонтик, или оба они. Каким образом мы распознаем истину? По внезапно нахлынувшему блаженству? Не думаю.
– Я был в лесу вместе с бабушкой, – сказал Мерсье. – Я не…
– Это бы меня удивило, – сказал Камье. – Нет, как мне представляется, это постепенное, долгое чувство облегчения, достигающее наивысшего накала недели за две, за три, если все пойдет хорошо, причем мы не знаем точно, чему его приписать. Это радость неведения (к слову сказать, нередкое сочетание), радость обретения утраченного главного блага при неведении его природы. Не подлежит сомнению то, что наше нынешнее и будущее состояние налагает на нас обязанность всеми средствами пытаться вступить во владение нашим изначальным снаряжением, прежде чем взмывать ввысь. Быть может, мы потерпим неудачу. Но мы исполним свой долг. Вот, на мой взгляд, более или менее те аргументы, которые нам следовало пустить в ход. Они воистину неотразимы.
– Она несла в руках свои груди, – сказал Мерсье, – держала их за соски, зажав большими и указательными пальцами. Но я не…
Камье вспылил, то есть притворился, будто вспылил, потому что на Мерсье он был не способен вспылить по-настоящему. Мерсье так и остался с приоткрытым ртом. В растрепанной седой бороде блестели капли, взявшиеся непонятно откуда. Немного выше бороды пальцы перебегали на огромный костлявый нос, туго обтянутый красной кожей, украдкой залезали в большие черные дыры, растопыривались, следуя впадинам щек, и опять принимались за свое. Бледно-серые глаза пристально смотрели вперед с подобием ужаса. Широкий и низкий лоб, прочерченный глубокими морщинами в форме крыльев, морщинами, что были обязаны своим происхождением не столько раздумьям, сколько тому хроническому удивлению, которое сначала поднимает брови, а потом раскрывает глаза, – этот лоб представлял собой все-таки наименее гротескную часть его лица. Он был увенчан неправдоподобно спутанной гривой сальных волос, в которых были представлены все оттенки цвета, от белобрысого до седого. Об ушах говорить не будем.
Мерсье вяло защищался.
– Ты просишь у меня убъяснений, – сказал Камье. – Я тебе их предоставляю. Ты не слушаешь.
– А мне вспомнился сон, – сказал Мерсье.
– Да, – сказал Камье, – вместо того чтобы слушать, ты так и норовишь рассказать мне свой сон. А ведь для тебя не секрет то, о чем мы договорились: никаких рассказов о снах, ни под каким предлогом. Аналогичное соглашение запрещает нам приводить цитаты.
– Lo bello stilo che m’ha fatto onore[4], – сказал Мерсье, – это цитата?
– Lo bello что? – сказал Камье.
– Lo bello stilo che m’ha fatto onore, – сказал Мерсье.
– Откуда мне знать? – сказал Камье. – Очень похоже. А что?
– Со вчерашнего дня слова жужжат у меня в голове, – сказал Мерсье, – и губы обжигают.
– Мне на тебя смотреть противно, Мерсье, – сказал Камье. – Мы принимаем определенные меры предосторожности, чтобы нам стало как можно лучше, чтобы не стало как нельзя хуже, и это совершенно все равно что мчаться вперед вслепую, глядя себе под ноги. – Он встал. – Ты в состоянии шевелиться? – сказал он.
– Нет, – сказал Мерсье.
– Все ясно, – сказал Камье. – Пойду поищу тебе чего-нибудь поесть.
– Топай, – сказал Мерсье.
Короткие кривые ножки быстро донесли его до деревни. Плечи плясали, руки ходили взад-вперед мимо груди, прямо комедия. Мерсье, оставшийся под сенью косогора, вновь не знал, по какой стороне из имевшихся двух ему спускаться. Потому что они сходились вместе. В конце концов он себе сказал: я – Мерсье, одинокий, больной, в холоде, в сырости, старый, полубезумный, вляпавшийся в безвыходную историю. Мгновение он ностальгически смотрел на это мерзкое небо, на кошмарную землю. В твои годы, сказал он. И так далее. Тоже комедия. Так какая разница.
– Я уже отчаялся и хотел уходить, – сказал господин Конейр.
– Жорж, – сказал Камье, – мне пять сэндвичей, четыре завернуть, а один отдельно. Видите, – сказал он, любезно повернувшись к господину Конейру, – я обо всем подумал. Тот, который я съем здесь, придаст мне сил, чтобы донести остальные четыре.
– Начетничество, – сказал господин Конейр. – Вы уносите свои пять сэндвичей завернутыми, внезапно ощущаете упадок сил, разворачиваете пакет, вынимаете один сэндвич, съедаете его, восстанавливаете свои силы и идете дальше с четырьмя остальными.
– На это я вам отвечу просто, – сказал Камье, – я предложу вам вмешиваться в то, что вас касается, а я собираюсь выпить пинту крепкого портера, что натощак не делается. Я не говорю, что я это сделаю, я говорю, что я это, может быть, сделаю. Следовательно, я вынужден съесть один сэндвич немедленно. – Он откусил кусок. – Хотите? – сказал он.
– Вы о нем заботитесь, – сказал господин Конейр. – Вчера пирожные, сегодня сэндвичи, завтра черствый хлеб, а в четверг камни.
– Горчицы, – сказал Камье.
– Прежде чем покинуть меня вчера, – сказал господин Конейр, – ради вашего жизненно важного дела, вы назначили мне встречу в этом самом месте в полдень. Я приезжаю, спросите у Жоржа, в каком состоянии, с моей обычной пунктуальностью. Жду. Скажете, я привык. Возможно. Меня начали одолевать сомнения. Не перепутал ли я место? День? Я во всем признаюсь бармену. Узнаю, что вы где-то наверху, с вашим бароном, причем уже довольно давно, и оба погружены в гнусное бесчувствие. Я прошу, чтобы вас разбудили, давая понять, насколько срочно мое дело. Но нет. Вас нельзя беспокоить ни под каким предлогом. Вы завлекаете меня в этот дом, якобы для того, чтобы нам потолковать спокойно, а едва появившись, вы принимаете меры, чтобы помешать мне с вами увидеться. Мне дают добрые советы. Подождите, они скоро спустятся. Проявляю слабость, жду. Вы спускаетесь? Какое там! Я возобновляю свои попытки. Разбудите его, скажите, что господин Конейр ждет внизу. Ни хрена. Желания постояльца священны – вот какие возражения мне выставляют. Я угрожаю, мне смеются в лицо. Я действую по-другому. Силой. Мне преграждают путь. Хитростью, улучив момент рассеянности, проскользнуть на лестницу. Меня настигают. Я умоляю, а им хоть бы что. Подбивают меня выпить, остаться пообедать, переночевать. Я увижу вас завтра. Мне дадут знать, как только вы спуститесь вниз. Зал наполняется народом. Чернорабочие, несколько проезжих. Я попадаю в водоворот. Просыпаюсь на кушетке. Семь часов. Вы ушли. Почему меня не предупредили? Никто не знал. В каком часу они ушли? Никто не знает. Вернутся они? Никто не знает.
Камье поднял воображаемую пивную кружку, это было видно по его скрюченным пальцам. Настоящую же кружку он медленно опорожнил не отрываясь. Заплатил, взял сверток и пошел к дверям. В дверях остановился.
– Господин Конейр, – сказал он, – примите мои извинения. Вчера в какой-то момент я много о вас думал. Потом я перестал о вас думать, ну совершенно, ни секунды. Как будто вас никогда не было, господин Конейр. Нет, я ошибся, как будто вы были, но исчезли. Не усмотрите в моих словах, господин Конейр, ничего дурного. Я не хочу вас оскорбить, господин Конейр. Просто я понял или, вернее, решил, что с моей работой покончено, я хочу сказать, с той моей работой, о которой все знают, и что я был не прав, полагая, будто вы можете присоединиться к нам, пускай даже на день-другой. Еще раз позвольте перед вами извиниться, господин Конейр, и прощайте.
– А моя сука! – возопил господин Конейр.
– Вы ее знаете, – сказал Камье. – Вам ее не хватает. Вы бы заплатили деньги, и немалые, за то, чтобы она нашлась. Цените свое счастье. – И он вышел.
Господин Конейр чуть не бросился за ним. Но он уже некоторое время сдерживался и, в сущности, обрадовался, что разговор пришел к концу. Вернувшись со двора, он бросил взгляд на улицу. Потом вернулся в зал, и там на него навалилась такая тоска, что он опять принялся за джин.
– Моя сука, – стонал он.
– Ладно, ладно, – сказал Жорж, – вам найдут другую.
– Маркиза! – стонал господин Конейр. – Она улыбалась!
Итак, и от этого отделались, если ничего не случится.
Господина Гэста было не видать, и не случайно, потому что он искал в роще подснежники для Патрика. Нет худа без добра.
Терезы тоже было не видать, и никто не пожалел о том, что ее не видать.
С остальными надо было потерпеть.
Мерсье совершенно не хотел есть. Но Камье его заставил.
– Ты весь зеленый, – сказал Камье.