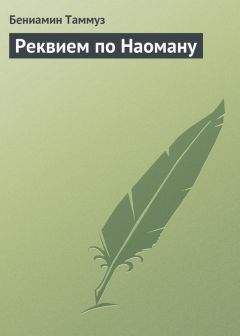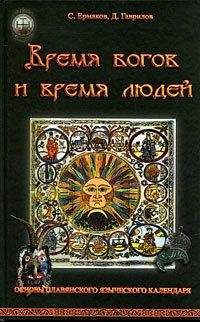Ознакомительная версия.
А так как все это не было известно властям Британии, в конце концов дали им под зад, и они вылетели из Эрец-Исраэль. Это всем известно.
Осенью 1946 зазвонил телефон в домике Герцля, говорил Эликум:
– Здравствуй, дядя Герцль, вот, я вернулся в Эрец-Исраэль.
– Ну, а коммунисты твои, что они тебе сказали? – решил узнать Герцль.
– Можно к тебе приехать? – спросил Эликум.
– Что за вопрос? – сказал Герцль и поспешил сообщить Эфраиму новость.
– Говорил я тебе, – бормотал Эфраим, – я ведь тебе все время это говорил.
Вечером приехали Сарра и Аминадав. Брат Эликума Овед позвонил из Иерусалима, оправдываясь, что не может приехать, ибо очень занят.
Эликум избавил всех от вопросов коротким ответом:
– Было тяжело.
Больше ничего нельзя было из него вытянуть. Но была у него просьба, чтобы одолжили ему немного денег. Он хочет поездить по стране, увидеть изменения.
– Ты всегда давал ему деньги, – сказала Сарра отцу, – видишь, что из этого вышло? Дай ему и сейчас.
– Еще как дам, – подразнил ее Эфраим, – и сколько захочет. Парень вылечился от всех своих сумасшествий.
– Откуда ты знаешь? – сказал Сарра, оглядывая сына с ног до головы с открытой неприязнью.
– Это видно сразу, – сказал Эфраим, – раз вернулся в лоно семьи, значит, выздоровел… Ты не собираешься вернуться в кибуц, – вдруг с испугом спросил он Эликума.
– Только навестить, – сказал Эликум.
На следующий день выпорхнул Эликум из дома точно так же, как возник. Герцль подвез его на своей машине к входу в кибуц.
– Правильно сделал, что не рассказал им о нашей встрече в Лондоне, – сказал Герцль, – чему-то все же научился там – молчать.
– Ты не рассказал им о нашей встрече? – в потрясении спросил Эликум.
– Ты же не просил им рассказывать, – ответил Герцль и помахал ему рукой на прощанье.
В кибуце сказали Эликуму, что Мэшулам Агалили давно умер, Лизель оставила его до этого. Из всей компании, прибывшей из Германии, осталась в кибуце горстка парней и девушек, они и дали Эликуму адрес Лизели. Она теперь была замужем за бухарским евреем лет шестидесяти, продавцом ковров, невероятно богатым.
– Лизель, – сказал Эликум в трубку, звоня из телефонной будки в Тель-Авиве, – узнаешь мой голос?
– Малыш, это ты? Вот сюрприз! Чего бы тебе не прийти ко мне сейчас же? Только не пугайся, я страшно растолстела и постарела. Возьми с собой бутылочку коньяка.
Муж Лизели, господин Бабаев, узнав, что Эликум жил в Лондоне, ужасно возбудился.
Спрашивал, знает ли Эликум район Нейтсбридж, там у Бабаева брат, тоже продавец ковров, магазин его разбомбили во время войны, но теперь он уже восстановлен. Эликум беседовал с господином Бабаевым, отвечал на все его вопросы, и время от времени косил глазом в сторону Лизель, сидящей в кресле, руки крест-накрест, лицо полное и спокойное. Только глаза как бы просили прощения за что-то.
Когда зазвонил телефон и господин Бабаев вышел из комнаты, Эликум спросил:
– Почему ты ушла к Мешуламу Агалили?
Лизель протянула к нему руки и сказала:
– Господи, да поцелуй меня.
– Почему ты ушла к Мешуламу? – Повторил Эликум, не сдвигаясь с места.
– Ты все еще не понимаешь? До сих пор?
– Понимал бы – не спрашивал, – сказал Эликум.
– Раз ты не понимаешь, не поможет, если попытаюсь тебе объяснить, – сказала Лизель, – почему ты не хочешь меня поцеловать?
Господин Бабаев вернулся в комнату и извинился за отсутствие.
Эликум встал, поклонился Лизель, пожал руку господину Бабаеву и вышел.
На улице шла огромная демонстрация под лозунгом «Слушайте наш призыв из глубин молчания!»
Некоторое время Эликум смотрел на шагающих людей, на британских полицейских, сопровождающих демонстрантов, затем пошел на автобусную станцию и вернулся в дом к деду. Было Эликуму тридцать три года, и он так и не мог объяснить, почему вернулся.
– Ты не торопись. Сиди спокойно, и мы разработаем план, – сказал ему дед Эфраим.
– Нет у меня планов, – ответил Эликум.
– Я его составлю, не беспокойся, – обещал Эфраим, – я не дам тебе гнить на фабриках твоего отца… Вдруг заделался портным, шить начал формы для армии. Это не для тебя. Я устрою тебе нечто получше, здесь, в мошаве.
– Нет, у меня преподавательское удостоверение, – сказал Эликум.
– Какое еще удостоверение? – испугался Эфраим.
– Я преподаватель марксизма, – объяснил Эликум. – Учился и получил удостоверение.
– Марксизм? Это как большевики? Забудь об этом. У нас в семье такого нет. Выслушай меня хорошенько, затем решишь сам… К примеру, дядя твой Герцль давно уже нуждается в помощнике. Если не хочешь, можно начать в союзе владельцев цитрусовых плантаций. Не обязательно бежать далеко, можно тут, дома. Сиди себе спокойно, время есть. Никто на тебя не давит. Ты уже не ребенок. Сколько тебе? Следует подумать о свадьбе, но и об этом не беспокойся.
– Я не беспокоюсь, – сказал Эликум, – я просто не знаю точно, что.
Когда люди не знают, является История и выбирает для них возможности, иногда находит и своих посланцев. Такое и случилось с Эликумом. Он встретил Историю в облике коммунистического лидера, усатого и очкастого, который объяснил ему, что на землях Палестины вскоре начнется первый этап уничтожения Британской империи, и один из путей участвовать в этом, пойти в ряды ЛЕХИ, организации, в которой есть и фашистские элементы, но её можно направить на цели революции, и в рядах организации уже находятся товарищи, знающие свои обязанности в этом деле.
В 1947 Эликум уже во всю служил этому делу, и из слов товарищей стало ему известно, что он мужественный герой, истинный боец и бесстрашный командир. И все это потому, что ему не составляло труда подкладывать мины под проволочное заграждение, окружающее воинский лагерь, стрелять из засады, лежать ночами в какой-либо канаве на обочине дороги или с водонапорной башни вести огонь по воинским колоннам англичан.
В свободное от операций время он рассказывал товарищам о диалектическом материализме, и они не смеялись над ним, ибо он был героем, но незаметно покидали комнату один за другом. Оставшись в одиночестве, он заводил патефон и слушал музыку. А если находился в других комнатах в перерывах между операциями, начинал насвистывать мелодии, и приклеилась к нему кличка «свистун», ибо если не говорил, и к нему не обращались, то начинал насвистывать.
Со временем он вообще перестал говорить. В 1948 году, когда грянула война за Независимость и лидеры провозгласили создание государства Израиль, Эликум влился в 89-й батальон. В декабре, во время наступления в Негеве, сразила его египетская пуля.
К его родителям пришли трое из военного раввината.
К концу 1948 число погибших на войне достигло пяти тысяч. Мертвые оставили родителей и вдов. Но эти страшные цифры говорили о принадлежности, а от принадлежности коротка дорога к смирению с приговором, а от смирения с приговором считанные шаги к окаменевшим лицам. Не плакать. Не быть сломленными. Павшие. Пали во имя. Не как те миллионы евреев, сожженных в печах. Здесь мы знаем, за что отдаем жизнь.
Обо всем этом читали в газетах члены семьи Абрамсон и Бен-Цион день за днем, отшвыривали от себя эти листы в испуге и говорили: «Не про нас будет сказано». А члены семьи Кордоверо говорили: «Покойник». И вот сейчас это приползло к порогу и ударило людям в сердца. Брата погибшего, Оведа, вызвали из армии, где он служил офицером, отвечающим за снабжение. Узнав о гибели брата, ощутил Овед гнев и вину. Как это могло случиться именно с ним, с его семьей, это граничило с подлостью, оскорблением, которое невозможно обойти молчанием и таким образом признаться в собственном бессилии и неуважении к себе. «Я отомщу за его кровь», – повторял он про себя, а потом и в голос.
Эфраим сидел, согнувшись, в кресле и требовал, чтобы принесли ему пальто. Он гневно отвергал предложение остаться дома и не ехать на похороны, отмахиваясь руками. Но не издал ни звука. Ривка щипала себе щеки, и надо было ее поддерживать. Сарра обмякла от слез в объятиях Аминадава, мужа своего, и все повторяла, что не хочет жить, что она во всем виновата, что ребенок, по сути, был сиротой со дня рождения, просто забыли его. И вот, сейчас она не хочет больше жить. Аминадав тряс ее за плечи, ошалело бормотал:
– Ну, да, и я… Что ты хочешь, Сарра? Я тоже… Что ты, что с тобой?..
Аминадав никогда не говорил упорядоченными фразами. И плакать тоже не умел, как и смеяться. Он был верен своей семье и своему делу, но к случившемуся абсолютно не был готов. Это было нечто новое и неправильное. Это свалилось внезапно, без всяческой подготовки. Как можно вообще что-то делать без подготовки? И что, другие понимают в этом больше? Или делают вид, что понимают? Ибо если это не так, почему ему это не открывают? Почему он как бы в стороне? Разве такое возможно, что другие понимают больше в том, что случилось с Эликумом? Ведь это его сын! Его, а не их. Так что же?
Ознакомительная версия.