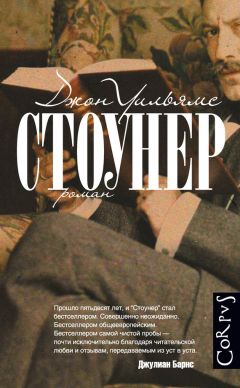Ознакомительная версия.
Вечерами, убрав квартиру, помыв посуду после ужина и уложив Грейс спать в кроватку в углу гостиной, он работал над книгой. К концу года она была окончена; и хотя он не был вполне ею доволен, он послал ее в издательство. К его удивлению, работу приняли к публикации, которая должна была состояться осенью 1925 года. Благодаря книге его повысили в университете до доцента, причем должность дали постоянную – без права администрации на увольнение.
О повышении стало точно известно через несколько недель после того, как книгу приняли; и тогда Эдит заявила ему, что на неделю поедет с ребенком к родителям в Сент-Луис.
Она вернулась в Колумбию менее чем через неделю, измотанная, но тихо торжествующая. Визит она сократила потому, что уход за ребенком отнимал у ее матери слишком много сил, а сама она не могла заниматься Грейс из-за того, что ее очень утомил переезд. Но кое-чего она добилась. Вынув из сумки какие-то бумаги, она протянула Уильяму маленький листок.
Это был чек на шесть тысяч долларов, выписанный мистеру и миссис Уильям Стоунер и снабженный жирной и почти неразборчивой подписью Хораса Бостуика.
– Что это? – спросил Стоунер. Она дала ему остальные бумаги.
– Это заем, – объяснила она. – Тут нужна только твоя подпись. Моя уже есть.
– На шесть тысяч! Для чего?
– Чтобы купить дом, – сказала Эдит. – Чтобы у нас было нормальное жилье.
Уильям Стоунер снова опустил взгляд на бумаги, быстро их просмотрел и сказал:
– Нет, Эдит, мы не можем. Очень жаль, но… пойми, за весь следующий год я получу только тысячу шесть сот. А выплаты по займу – больше шестидесяти дол ларов в месяц, это почти половина моего заработка. А еще налоги, еще страховка – я не вижу, как мы это потянем. Зря ты со мной сначала не поговорила.
Ее лицо стало скорбным; она отвернулась от него.
– Я хотела сделать тебе сюрприз. У меня так мало сил. А это было в моих силах.
Он попытался ее уверить, что благодарен ей за попытку, но Эдит это не утешило.
– Я ведь о вас думала, о тебе и малышке. У тебя будет кабинет, у Грейс двор, где играть.
– Я понимаю, – сказал Уильям. – Может быть, через несколько лет.
– Через несколько лет, – повторила Эдит. И замолчала. Потом глухо продолжила: – Я больше не могу так жить. Не могу. В квартире. Куда ни уйду, всюду тебя слышно, и ребенка слышно, и… запах. Я – не могу – его больше – терпеть! День за днем, день за днем этот запах подгузников, я… не выношу его, а уйти мне некуда. Не понимаешь? Не понимаешь?
Кончилось тем, что они взяли деньги. Стоунер решил, что будет, по крайней мере в ближайшие несколько лет, преподавать и в летние месяцы, которые хотел посвятить исследовательской работе.
Поиски дома Эдит взяла на себя. Весь конец весны и начало лета она занималась этим неустанно; ее болезнь разом бесследно прошла. Как только Уильям возвращался домой после занятий, она покидала квартиру и зачастую отсутствовала допоздна. Иногда ходила пешком, иногда ее возила Кэролайн Финч, с которой Эдит поверхностно сдружилась. В конце июня она нашла подходящий дом; она подписала опцион на покупку, обязавшись совершить ее к середине августа.
Это был старый двухэтажный дом всего в нескольких кварталах от кампуса. Прежние владельцы мало о нем заботились; темно-зеленая краска сильно облупилась, лужайка была рыжая от засыхающих сорняков. Но дом, как и двор при нем, был просторный; благородству, пусть обветшалому и замызганному, которое здесь чувствовалось, Эдит хотела дать новую жизнь.
Она заняла у отца еще пятьсот долларов на мебель, и за время между летними курсами и началом осеннего семестра Уильям заново выкрасил дом; Эдит выбрала белый цвет, и ему пришлось нанести три слоя, чтобы старый зеленый не просвечивал. В первую неделю сентября Эдит вдруг решила, что хочет устроить новоселье. Она объявила об этом Уильяму не без торжественности – как о событии, знаменующем новое начало.
Они пригласили всех преподавателей кафедры, кто вернулся к тому времени после летних каникул, и нескольких городских знакомых Эдит; Холлис Ломакс, удивив всех, принял приглашение – в первый раз за год, который он провел в Колумбии. Стоунер нашел бутлегера и купил несколько бутылок джина; Гордон Финч пообещал принести пива; для тех, кто не любит крепкие напитки, Эмма Дарли, тетя Эдит, пожертвовала две бутылки старого хереса. Эдит поначалу не хотела предлагать гостям алкоголь, который официально был запрещен, но Кэролайн Финч уговорила ее, намекнув, что никто в университете не сочтет это неподобающим.
Осень в том году наступила рано. Десятого сентября – накануне регистрации студентов – выпал легкий снежок; ночью землю сковал изрядный мороз. К концу недели, на который назначили вечеринку, потеплело – в воздухе осталась лишь осенняя прохлада; но листва с деревьев облетала, трава начинала жухнуть, и во всем была та оголенность, что предвещает суровую зиму. Прохлада снаружи, раздетые тополя и вязы, окоченело высящиеся во дворе, гостеприимное тепло в доме и накрытый стол – все это напомнило Уильяму Стоунеру другой день. Какое-то время он не мог понять, что именно ему вспоминается, а потом сообразил, что в похожий день он вошел в дом Джосайи Клэрмонта и там впервые увидел Эдит. Казалось, это было давно, стало далеким прошлым; сколько перемен за эти неполные семь лет…
Почти неделю перед новосельем Эдит исступленно к нему готовилась; она наняла на эту неделю негритянку помогать с уборкой, готовкой и сервировкой, и вдвоем они оттирали полы и стены, вощили дерево, приводили в порядок мебель, расставляли ее и переставляли – и неудивительно, что перед началом вечеринки Эдит была близка к изнеможению. Под глазами у нее темнели круги, в голосе слышалась тихая истерика. В шесть часов – а гостей пригласили к семи – она вновь пересчитала рюмки и обнаружила, что их не хватает. Ударилась в слезы, с рыданиями бросилась наверх; ей все равно, причитала она, что теперь будет, вниз она не сойдет. Стоунер пытался ее успокоить, но она не отвечала ему. Он сказал, чтобы она не волновалась: он раздобудет рюмки. Он предупредил негритянку, что скоро вернется, и торопливо вышел. Почти час искал магазин, который еще был бы открыт и где продавались бы рюмки; когда наконец нашел, выбрал рюмки и вернулся домой, уже был восьмой час и часть гостей пришла. Эдит была среди них в гостиной, улыбалась и непринужденно болтала – казалось, ничто ее не заботило и не тревожило; она небрежно кивнула Уильяму и сказала, чтобы отнес коробку в кухню.
Вечеринка была подобна многим другим. Разговоры начинались вдруг, без связи с предыдущими, стремительно набирали нестойкую силу и, опять-таки без связи, перетекали в другие разговоры; быстрые, нервные всполохи смеха были подобны отдельным небольшим разрывам непрерывной и повсеместной, но бессистемной артиллерийской бомбардировки; гости с видимой небрежностью переходили с места на место, как бы тихо занимая меняющиеся тактические позиции. Некоторые из них, словно разведчики, осматривали дом, проходя по комнатам под водительством Эдит или Уильяма, и отмечали преимущество таких вот старых зданий перед новыми легковесными постройками, вырастающими там и тут на окраинах города.
К десяти вечера большинство гостей взяли тарелки с ветчиной и кусочками холодной индейки, с маринованными абрикосами, со смешанным гарниром из крохотных помидоров, черешков сельдерея, оливок, маринованных огурчиков, хрустящего редиса и маленьких сырых побегов цветной капусты; кое-кто, правда, изрядно набрался и есть не стал. К одиннадцати люди в большинстве своем разошлись; в числе оставшихся были Гордон и Кэролайн Финч, несколько преподавателей кафедры, знакомых со Стоунером не один год, и Холлис Ломакс. Ломакс выпил немало, хоть и старался этого не показывать; он ходил аккуратно, как будто нес что-то тяжелое по неровной земле, его худощавое бледное лицо блестело, подернутое пленкой пота. Алкоголь развязал ему язык; он говорил, как всегда, внятно и точно, но без примеси иронии и предстал поэтому незащищенным.
Он говорил о своем одиноком детстве в Огайо, где его отец довольно успешно занимался мелким бизнесом; он рассказал, словно глядя на свое прошлое со стороны, о вынужденной изоляции, причиной которой было телесное уродство, о детском непонятном ему стыде, от которого он не имел защиты. А когда он заговорил о долгих одиноких днях и вечерах в комнате за чтением, избавлявшим от ограничений, наложенных деформированным телом, и помогавшим мало-помалу обрести ощущение свободы, которое усиливалось по мере того, как он осознавал суть этой свободы, – когда он об этом заговорил, Уильям Стоунер нежданно почувствовал душевное родство с Ломаксом: он понял, что Ломакс тоже пережил обращение своего рода, что ему через слова было явлено нечто невыразимое словами, как это произошло однажды со Стоунером на занятиях у Арчера Слоуна. Ломакс получил это знание в раннем возрасте и без посредника, поэтому он проникся им сильнее, чем Стоунер; но в некоем самом важном в конечном счете смысле эти два человека были схожи, несмотря на все, что мешало признаться в этом другому и даже себе.
Ознакомительная версия.