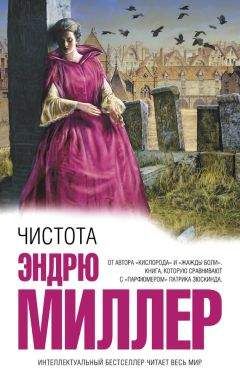Насколько тяжело приходится рабочим, видно по количеству алкоголя, необходимого, чтобы продержаться. Сегодня день «на три бутылки». По бутылке на каждый вырытый метр. Одна десятая бутылки на человека на каждый вырытый метр. Это уравнение? Таким уравнениям в Школе мостов не учили. Когда работа закончена и горняки расходятся по палаткам или погреться у большого костра рядом с крестом проповедника, Жан-Батист и Лекёр умывают руки в ведре у входа в жилище пономаря.
– Чем это они собираются там заниматься? – спрашивает Лекёр, стряхивая с пальцев воду и кивая на предоставленную лекарям лабораторию, небольшое помещение без окон, сооруженное из натянутой на шесты холстины, которое пристроили к церковной стене.
– Бог его знает, – отвечает Жан-Батист, который уже видел, как несколько ранее туда внесли пару столов на козлах и тяжелую кожаную сумку, в которой что-то позвякивало.
На кухне один лишь старый пономарь спит в своем кресле, но через несколько секунд с лестницы спускается Жанна. Ее нежное личико сияет, словно она только что умыла его свежей холодной водой.
– Он отдыхает, – говорит она, – и уже принял все лекарства.
– Блок? – спрашивает Жан-Батист.
Девушка кивает.
– Доктор сказал, что, если сможет, навестит его завтра.
– Хорошо. Спасибо, Жанна. Я очень тебе благодарен.
– А ваше лекарство на каминной полке, – говорит она. – Вон там.
– Твое лекарство? – удивляется Лекёр.
– Доктор Гильотен, похоже, решил, что мне нужно средство от бессонницы.
– Ах, от бессонницы! Да, в последнее время Морфей и со мной не дружит. Всю ночь мечусь в постели, точно заяц.
– Тогда возьми себе половину, – предлагает Жан-Батист, рассматривая пузатую коричневую бутылочку без надписи, закупоренную пробкой. – Здесь хватит на двоих.
Оставив Лекёра с Жанной и дедом, он возвращается на Рю-де-ля-Ленжери с ополовиненным флакончиком в кармане. Перед сном следовало бы подвести некоторые итоги, а завтра попытаться получить еще денег в ювелирной лавке на Рю-Сен-Оноре. Надо заплатить торговцам и, конечно, рабочим. Что-то посолиднее необходимо выдать Лекёру, Жанне с дедом, Арману и Лизе Саже. Жан-Батист задолжал месье Моннару плату за месяц и не хочет больше тянуть, чтобы не давать хозяину повод для недовольства. На лестнице, ведущей в гостиную, он встречает Мари, которая спускается с подносом, полным тарелок. На тарелках разбросаны мелкие косточки. Мари корчит ему рожицу – не исключено, что в предместье Сент-Антуан такая гримаса имеет какой-то особый смысл. Жан-Батист тихонько спрашивает, как себя чувствует Зигетта.
– О, бедняжка Зигетта! – восклицает Мари, довольно удачно передразнивая мадам Моннар, и проходит мимо, задев его плечом и бедром.
Жан-Батист идет к себе в комнату, садится, сидит при свече, потом ставит на стол бутылочку с лекарством и, сложив руки, смотрит. Сколько капель надо принимать? Сказал ли доктор Гильотен? Инженер помнит, что это же средство прописывали под конец жизни отцу. Сколько они вливали ему в рот из ложки? Десять капель? Двадцать? Он решает, что выпьет немного. Не утруждая себя счетом. Устал он считать. Выпьет немного и посмотрит, что получится, а после уж разберется, сколько капать.
* * *
Уже поздно – поздно или, наоборот, рано. Жанна, разбуженная какими-то звуками, которые услышала сквозь сон, выходит из комнаты, где живет вместе с дедом, и смотрит на Яна Блока. Лицо горняка освещено лунным светом, который льется из узкого арочного окна в конце лестничной площадки. Требуется несколько секунд – так крепко она спала, – чтобы осознать, что у больного открыты глаза. Девушка улыбается ему, потом опускается рядом на колени – так ему будет лучше видно. Он протягивает к ней руку, и она успевает ее поймать. Потом, подержав, она кладет эту руку ему на грудь, чуть поднимающуюся от неровного дыхания. Горняк медленно опускает веки, и в этом есть что-то такое безропотное, такое безнадежное, что ей не верится, что он когда-нибудь их откроет. Его дыхание на миг останавливается, мгновение длится, и кажется, оно будет длиться вечность. Но вот грудь больного сдавливает какой-то спазм, что-то вроде икоты, и он снова начинает дышать, теперь гораздо спокойнее.
Скрипят ступеньки. Появляется голова, высовывающаяся из мрака лестничной клетки в серебристый свет коридора. Голая, бритая голова, блестящие глаза.
– Не бойся, – очень тихо говорит голова. – Это только я, Лекёр.
– Он проснулся, – отвечает она, – но потом уснул.
– Ты хорошая девушка, – говорит Лекёр. – Кажется, ты мне снилась.
– Уже утро? – спрашивает она.
– Нет, – неуверенно отвечает он, – не думаю.
Элоиза Годар, любительница чтения, продажная женщина, дочь хозяев таверны на тракте Орлеан – Париж, юное создание, только что справившее свое двадцатипятилетие и по собственной воле давно уже губящее собственную жизнь, встает с колоколами церкви Святого Евстафия, которые бьют шесть, на ощупь одевается (от белых чулок до зеленой ленточки вокруг шеи), зажигает свечу, чтобы оглядеть себя перед выходом, и, погасив ее, спускается по винтовой деревянной лестнице в мир людей на Рю-дю-Жур.
Как всегда бывает при выходе из дома, она испытывает волнение, что-то внутри затвердевает – то, что за ночные часы, пока она лежала в своей одинокой постели, успело смягчиться, раскрыться… Она стягивает плащ на груди, надевает капюшон, вдыхает холодный воздух.
У нее назначено свидание с Бубоном, плетельщиком корзин, в его мастерской в дальнем конце рынка. Бубон – вдовец, человек, который, как и торговец книгами Исбо, как портной Тибо – как и она сама, – не особенно похож на соседей. Это будет их восьмое свидание. Мужчин, с которыми Элоиза встречается – а их немного, – она навещает регулярно, в назначенные дни, назначенные часы. Она не имеет дела с кем попало. Все эти разговоры, мол, она пойдет с первым встречным, стоит только покрутить монетой у нее перед носом, все это ложь. В большинстве случаев ей приходится самой подходить к господину, но даже и тогда ничего не говорится прямо. Она хорошо научилась вести себя по-деловому, никогда, впрочем, не называя вещи своими именами. Как раз это, вероятно, им в ней и нравится: ее готовность никогда не сопротивляться тому, что они делают, тому, за что они платят, тому, что им потребно. А потребно им не совсем то, что рисует в своем грубом воображении весь квартал. Например, она будет сидеть на коленях у Бубона среди вязанок и ивовых прутьев, а он станет рассказывать ей о том, как идет торговля, жаловаться на боли в спине и ногах. Она выслушает его с нежным вниманием, потом даст какой-нибудь совет, ободрит его, как поступила бы любая жена. Позже он станет разглядывать верхний край ее чулок, проведет тупым, мозолистым пальцем по их шерстяной кромке, а она в который раз спросит, какая разница между ажурным плетением и витым и чем именно витое плетение отличается от спирального и фигурного. Все это нельзя назвать таким уж неприятным. И наверняка можно вынести. Как правило, можно. Потом, когда ее платье, нижние юбки и сорочка опущены и расправлены как полагается, они выпьют кофе, сваренный на очаге мастерской, она заберет деньги, завернутые в бумажку и оставленные для нее в нише у двери (она не из тех шлюх, что обитают в Пале-Рояль: они-то ничего не сделают и не скажут, пока не получат деньги вперед), и тихо и быстро уйдет. После чего оба почувствуют облегчение, что все закончилось до следующей недели.
Но перед Бубоном надо поесть. Невозможно пройти по рынку ранним утром и не остановиться, чтобы заморить червячка. Сам воздух – воздух, несмотря ни на что, – того требует. Поэтому она останавливается у лавки мадам Форж (той самой, что красит свои волосы в цвет половой тряпки мясника), покупает небольшую булочку, теплую, как кровь, и на ходу отщипывает кусочки корки. В этот утренний час ее почти не замечают и редко оскорбляют. Даже пьянчужка Мерда со слипшимися глазами, который сидит на ступеньке и ест луковицу, глядит на нее совершенно спокойно. Чтобы сэкономить несколько минут, она сокращает путь через рыбные ряды и видит, как старый настоятель в синих очках спорит с торговкой о цене за голову трески. Мать торговки отдала бы бедному настоятелю эту голову даром, а уж бабушка тем более. Но времена изменились. Теперь нет нужды трепетать перед попами. Рай и ад, ангелы и дьяволы – нынче многие насмехаются над такими вещами. И не только умники из кафе де Фуа или Прокоп. Многие простые люди говорят то же самое. Такие, как торговка рыбой, наверное. Или как она сама.
Она выходит за настоятелем из рыбных рядов, теряет его из виду в толпе, что начала образовываться в начале дня, движется в сторону Рю-де-ля-Фромажери, пересекает южную оконечность рынка и доходит до Рю-о-Фэр. Над стенами кладбища – как всегда в эти дни, в эти дни и ночи, – виднеются струйки дыма от костров. Но в это утро можно заметить еще кое-что, кое-что новое. Черные буквы на стене. Огромные, неровные, мимо которых не пройдешь. Они тянутся от самых дверей почти до Рю-де-ля-Ленжери: «Толстяк-король и шлюха-королева, берегитесь! Кайло копает такую яму, что в ней можно похоронить весь Версаль!»